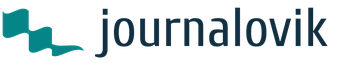© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2012
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2012
© ООО «Книжный клуб “Клуб семейного досуга”», г. Белгород, 2012
* * *
Золотое перо Америки
30 ноября 1835 года в США, в деревушке Флорида в штате Миссури, появился на свет ребенок, которого назвали Сэмюэл Ленгхорн Клеменс. Этот год запомнился жителям Земли величественным космическим зрелищем – появлением на небосклоне кометы Галлея, приближающейся к нашей планете раз в 75 лет. Вскоре семья Сэма Клеменса в поисках лучшей жизни переехала в городок Ганнибал в том же Миссури.
Глава семьи умер, когда его младшему сыну не исполнилось и двенадцати лет, не оставив ничего, кроме долгов, и Сэму пришлось зарабатывать на хлеб в газете, которую начал издавать его старший брат. Подросток трудился не покладая рук – сначала в качестве наборщика и печатника, а вскоре и как автор забавных и едких заметок.
Но вовсе не слава «золотого пера» привлекала в эти годы юного Клеменса. Выросший на Миссисипи, он, как позднее и его герои, постоянно ощущал зов могучей и полной волшебного очарования реки. Он мечтал о профессии лоцмана на пароходе и спустя несколько лет действительно стал им. Позже он признавался, что считает это время самым счастливым в своей жизни и, если бы не Гражданская война между северными и южными штатами США, оставался бы лоцманом до конца своих дней.
В рейсах по Миссисипи родился и псевдоним, которым Сэм Клеменс подписывал все свои произведения – двадцать пять увесистых томов. «Марк твен» на жаргоне американских речников означает минимальную глубину, при которой пароход не рискует сесть на мель, – что-то около трех с половиной метров. Это словосочетание стало его новым именем, именем самого знаменитого человека второй половины XIX века в Америке – писателя, создавшего настоящую американскую литературу, сатирика, публициста, издателя и путешественника.
С началом военных действий судоходство по Миссисипи прекратилось и Сэм Клеменс вступил в один из добровольческих отрядов, но быстро разочаровался в бессмысленно жестокой войне, где соотечественники истребляли друг друга, и вместе с братом отправился на западное побережье в поисках заработка. Две недели длилось путешествие в фургоне, и, когда братья добрались до штата Невада, Сэм остался работать на шахте в поселке Вирджиния, где добывали серебро.
Рудокопом он оказался неважным, и вскоре ему пришлось устроиться в местную газету «Территориэл Энтерпрайзис», где он впервые начал подписываться «Марк Твен». А в 1864 году молодой журналист перебрался в Сан-Франциско, где начал писать сразу для нескольких газет, и вскоре к нему пришел первый литературный успех: его рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса» был признан лучшим произведением юмористической литературы, созданным в Америке.
В эти годы в качестве корреспондента Марк Твен объездил всю Калифорнию и побывал на Гавайских островах, а его путевые заметки пользовались неслыханной популярностью у читателей.
Но настоящую славу Марку Твену принесли другие путешествия – в Европу и на Ближний Восток. Письма, написанные им в пути, составили книгу «Простаки за границей», которая увидела свет в 1869 году. Писателю не сиделось на месте – в эти годы он успел побывать не только в Европе, но и в Азии, Африке и даже в Австралии. Заглядывал он и в Украину – в Одессу, но совсем ненадолго.
Случайная встреча с другом детства в 1874 году и общие воспоминания о мальчишеских приключениях в городке Ганнибал натолкнули Твена на мысль написать об этом. Книга далась ему не сразу. Поначалу он задумывал ее в форме дневника, но наконец нашел нужную форму, и в 1875 году были созданы «Приключения Тома Сойера». Роман был опубликован через год и в считанные месяцы превратил Марка Твена из известного юмориста в великого американского писателя. За ним закрепилась слава мастера увлекательного сюжета, интриги, создателя живых и неповторимых характеров.
К этому времени писатель с женой и детьми поселился в городке Хартфорд в штате Коннектикут, где и прожил следующие двадцать лет, наполненных литературным трудом и заботами о семье. Почти сразу по окончании «Тома Сойера» Марк Твен задумал «Приключения Гекльберри Финна», но работа над книгой заняла много времени – роман был опубликован только в 1884 году. Полвека спустя Уильям Фолкнер писал: «Марк Твен был первым по-настоящему американским писателем, и все мы с тех пор – его наследники».
После «Гекльберри» Твен создал несколько романов, которые и по сей день завораживают читателей. Среди них «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Личные воспоминания о Жанне д’Арк», «Простофиля Уилсон» и другие. Он публиковал сборники рассказов и очерков, сатирические и публицистические произведения, пользовавшиеся неизменным успехом у читателей. Спустя десятилетие он вернулся к своему первому шедевру и создал повести «Том Сойер за границей» и «Том Сойер – детектив».
Жизнь Марка Твена была сложной и насыщенной самыми неожиданными событиями. Он знавал удачи и провалы, бывал богат и беден, вкладывал свои гонорары в безумные предприятия и проекты и часто ошибался в финансовых делах. Так, в 1896 году управляющий издательства, основанного писателем, довел его до краха и оставил Твена без средств к существованию и с гигантскими долгами. Чтобы выпутаться из этой ситуации, Марк Твен перевез свою семью в Европу, а сам в возрасте 65 лет отправился в кругосветное турне с лекциями. Турне продлилось больше года, Твен заработал достаточно, чтобы избавиться от долгов, но в это время скончалась его жена, которая долгие годы была его литературным редактором и бесценным советчиком.
Конец жизни Марка Твена был печальным – несчастья буквально преследовали его. Помимо смерти жены ему пришлось пережить смерть одной из дочерей и неизлечимую болезнь другой. В Америке разразился экономический кризис, причинами которого Твен считал алчность богатых и безнравственность бедных. Писатель, чьи лучшие произведения наполнены мудростью и светлым юмором, разочаровался в человечестве и больше не верил в прогресс и демократию, эти главные американские ценности. Такие мысли звучат в его последних произведениях, многие из которых остались незаконченными, и в «Воспоминаниях», опубликованных только в 1924 году.
За год до смерти Марк Твен сказал другу, что ему остается только дождаться кометы и покинуть вместе с ней Землю, которая так его разочаровала. Он умер 21 апреля 1910 года. Комета Галлея появилась на небосклоне на следующий день.
Глава 1

Ни звука.
Молчание.
– Удивительно, и куда провалился этот мальчишка? Где ты, Том?
Нет ответа.
Тетя Полли сдвинула очки на кончик носа и оглядела комнату. Затем подняла очки на лоб и оглядела комнату из-под них. Почти никогда она не глядела на такую ерунду, как мальчишка, сквозь очки; это были парадные очки, и приобретены они были исключительно для красоты, а не ради пользы. Поэтому разглядеть что-либо сквозь них было так же трудно, как сквозь печную дверцу. На минуту она застыла в раздумье, а затем произнесла – не особенно громко, но так, что мебель в комнате могла ее расслышать:
– Ну погоди, дай только добраться до тебя, и я…
Оборвав себя на полуслове, она наклонилась и принялась шарить половой щеткой под кроватью, переводя дух после каждой попытки. Однако ничего, кроме перепуганной кошки, извлечь оттуда ей не удалось.
– Что за наказание, в жизни такого ребенка не видывала!
Подойдя к распахнутой настежь двери, она остановилась на пороге и окинула взглядом огород – грядки томатов, основательно заросших сорняками. Тома не было и здесь. Тогда, повысив голос настолько, чтобы ее было слышно и за забором, тетя Полли крикнула:
– То-о-ом, ты куда пропал?
Позади послышался едва уловимый шорох, и она мгновенно оглянулась – так, чтобы успеть ухватить за помочи мальчишку, прежде чем тот шмыгнет в дверь.
– Так и есть! Я опять упустила из виду чулан. Что тебе там понадобилось?
– Ничего.
– Как это – ничего? А в чем у тебя руки? Кстати, и физиономия тоже. Это что такое?
– Откуда мне знать, тетушка?
– Зато я знаю. Это варенье – вот это что! Сотню раз я тебе твердила: не смей прикасаться к варенью! Подай сюда розгу.
Розга угрожающе засвистела в воздухе – беды не миновать.
– Ой, тетушка, что это там шевелится в углу?!
Пожилая леди стремительно обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчик мигом перемахнул через забор огорода – и был таков.
В первое мгновение тетя Полли оторопела, но потом рассмеялась:
– Ну и прохвост! Неужто я так ничему и не научусь? Разве мало я перевидала его каверз? Пора бы уже мне и поумнеть. Но недаром ведь сказано: нет хуже дурака, чем старый дурак, а старую собаку не выучишь новым фокусам. Но, господи боже мой, ведь он каждый день придумывает что-нибудь новенькое – как же тут угадаешь? А главное, знает, где предел моему терпению, и стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку, так я даже отшлепать его как следует не могу. Ох, не исполняю я свой долг, хоть это и великий грех! Верно сказано в Библии: кто щадит отпрыска своего, тот его и губит… И что тут поделаешь: Том сущий бесенок, но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры – и у кого же рука поднимется наказывать сироту? Потакать ему – совесть не велит, а возьмешься за розгу – сердце разрывается. Недаром в Библии говорится: век человеческий краток и полон скорбей. Истинная правда! Вот, пожалуйста: сегодня он отлынивает от школы, значит, придется мне завтра его наказать – пусть потрудится. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник, но я-то знаю, что работа для него вдвое хуже розги, а я обязана исполнить свой долг, иначе окончательно погублю душу ребенка.
В школу Том действительно не пошел, поэтому время провел отлично. Он едва успел вернуться домой, чтобы перед ужином помочь негритенку Джиму напилить дров и наколоть щепок для растопки. А уж если по правде – для того, чтобы поведать Джиму о своих похождениях, пока тот будет управляться с работой. Тем временем младший брат Тома Сид подбирал и носил поленья в растопку. Сид был примерный мальчик, не чета всяким сорванцам и озорникам, правда, братом он Тому приходился не родным, а сводным. Неудивительно, что это были два совершенно разных характера.
Пока Том ужинал, то и дело запуская лапу в сахарницу, тетя Полли задавала ему вопросы, которые ей самой казались весьма коварными, – ей хотелось поймать Тома на слове. Как многие очень простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые изощренные уловки, и полагала, что ее невинные хитрости – верх проницательности и лукавства.
– Что, Том, в школе сегодня было не слишком жарко?
– Нет, тетушка.
– А может быть, все-таки жарковато?
– Да, тетушка.
– Неужто тебе не захотелось выкупаться, Томас?
У Тома похолодела спина – он мигом почуял подвох.
Недоверчиво заглянув в лицо тети Полли, он ничего особенного там не увидел, потому и сказал:
Тетя Полли протянула руку и, пощупав рубашку Тома, проговорила:
– И в самом деле ты совсем не вспотел. – Ей доставляло удовольствие думать, что она сумела проверить, сухая ли у Тома рубашка, так, что никто не догадался, зачем ей это понадобилось.
Том, однако, уже учуял, откуда ветер дует, и опередил ее на два хода:
– В школе мальчики поливали головы водой из колодца. У меня она до сих пор мокрая, вот – поглядите-ка!
Тетя Полли огорчилась: какая улика упущена! Но тут же снова взялась за свое:
– Но ведь тебе незачем было распарывать воротник, чтобы окатить голову, правда? Ну-ка, расстегни куртку!
Ухмыльнувшись, Том распахнул куртку – воротник был накрепко зашит.
– Ох, ну тебя, прохвост! Убирайся с моих глаз! Я, признаться, и в самом деле решила, что ты сбежал с уроков купаться. Но не так ты плох, как иной раз кажется.
Тетушка и огорчилась, что проницательность на этот раз ее подвела, и обрадовалась – пусть это было случайностью, но Том сегодня вел себя прилично.
– Мне кажется, что с утра вы зашили ему ворот белой ниткой, а теперь, глядите – черная.
– Ну да, конечно же белой! Томас!
Ожидать продолжения следствия стало опасно. Выбегая за дверь, Том крикнул:
– Уж я припомню это тебе, Сидди!
Оказавшись в безопасности, Том осмотрел две толстые иголки, вколотые в изнанку лацкана его куртки и обмотанные ниткой: одна – белой, другая – черной.
– Вот чертовщина! Она бы ничего не заметила, если б не этот Сид. И что это за манера: то она зашивает белой ниткой, то черной. Хоть бы что-нибудь одно, за всем ведь не уследишь. Ох, и всыплю же я этому Сиду по первое число!
Даже с очень большой натяжкой Тома нельзя было назвать самым примерным мальчиком в городе, зато он хорошо знал этого самого примерного мальчика – и терпеть его не мог.
Однако спустя пару минут, а возможно и быстрее, он забыл о своих злоключениях. Не потому, что эти злоключения были не такими болезненными и горькими, как несчастья взрослых людей, но потому, что новые, более сильные впечатления вытеснили их из его души, – в точности так же, как взрослые забывают старое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Сейчас такой новинкой была особая манера свистеть, которую он только что перенял у одного чернокожего, и теперь было самое время без помех поупражняться в этом искусстве.
Свист этот представлял собой птичью трель – что-то вроде заливистого щебета; и чтобы выходило как надо, требовалось то и дело касаться нёба кончиком языка. Читатель наверняка знает, как это делается, если когда-нибудь был мальчишкой. Понадобились изрядные усилия и терпение, но вскоре у Тома стало получаться, и он зашагал по улице еще быстрее – с его губ слетал птичий щебет, а душа была полна восторга. Он чувствовал себя как астроном, открывший новую комету, – и, если уж говорить о чистой, глубокой, без всяких примесей радости, все преимущества были на стороне Тома Сойера, а не астронома.
Впереди был длинный летний вечер. Внезапно Том перестал насвистывать и замер. Перед ним стоял совершенно незнакомый мальчик чуть старше, чем он сам. Любой приезжий, независимо от возраста и пола, был великой редкостью в захудалом городишке Сент-Питерсберге. А этот мальчишка вдобавок был одет как щеголь. Только вообразите: одет по-праздничному в будний день! Невероятно! На нем были совершенно новая шляпа без единого пятнышка, нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. И, боже правый, он был в башмаках – это в пятницу-то! У него даже имелся галстук из какой-то пестрой ленты, завязанный у ворота. Вид у щеголя был надменный, чего Том стерпеть уж никак не мог. И чем дольше он смотрел на это ослепительное великолепие, тем выше задирал нос перед франтом чужаком и тем более убогим казался ему собственный наряд. Оба молчали. Если начинал двигаться один из мальчиков, двигался и другой, но боком, сохраняя дистанцию; они стояли лицом к лицу, не отрывая глаз друг от друга, и наконец Том проговорил:
– Хочешь, отколочу?
– Только попробуй! Сопляк!
– Сказал, что отколочу, и отколочу!
– Не выйдет!
– Выйдет!
– Не выйдет!
– Выйдет!
– Не выйдет!
Тягостная пауза, после чего Том снова начал:
– Как тебя звать?
– Не твое собачье дело!
– Захочу – будет мое!
– Чего ж ты не дерешься?
– Поговори еще – и получишь по полной.
– И поговорю, и поговорю – что, слабо?
– Подумаешь, павлин! Да я тебя одной левой уложу!
– Ну так чего не укладываешь? Болтать все умеют.
– Ты чего вырядился? Подумаешь, важный! Еще и шляпу нацепил!
– Возьми да сбей, если не нравится. Только тронь – и узнаешь! Где уж тебе драться!
– Катись к дьяволу!
– Поговори у меня еще! Я тебе голову кирпичом проломлю!
– И проломлю!
– Ты, я вижу, мастер болтать. Чего ж не дерешься? Струсил?
– Нет, не струсил!
И снова грозное молчание. Затем оба начали боком подступать друг к другу, пока плечо одного не уперлось в плечо другого. Том сказал:
– Давай, уноси ноги отсюда!
– Сам уноси!
Оба продолжали стоять, изо всех сил напирая на соперника и с ненавистью уставившись на него. Однако одолеть не мог ни один, ни другой. Наконец, разгоряченные стычкой, они с осторожностью отступили друг от друга и Том проговорил:
– Ты паршивый трус и слюнявый щенок. Вот скажу старшему брату, чтоб он тебе задал как следует!
– Наплевать мне на твоего старшего брата! У меня тоже есть брат, еще постарше твоего. Возьмет да и перебросит твоего через забор!
Тут следует вспомнить, что у обоих никаких старших братьев и в помине не было. Тогда Том большим пальцем ноги провел в пыли черту и, хмурясь, проговорил:
– Переступишь эту черту, и я тебя так отлуплю, что своих не узнаешь! Попробуй – не обрадуешься!
Франт быстро перешагнул черту и задиристо сказал:
– Ну-ка давай! Только тронь! Чего не дерешься?
– Давай два цента – получишь.
Порывшись в кармане, франт достал два медяка и с усмешкой протянул Тому. Том мигом ударил его по руке, и медяки полетели в пыль. В следующее мгновение оба клубком покатились по мостовой. Они таскали друг друга за волосы, рвали одежду, угощали увесистыми тумаками – и покрыли себя пылью и «боевой славой». Когда пыль немного осела, сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал приезжего и молотит его кулаками.

– Проси пощады! – наконец проговорил он, переводя дух.
Франт молча завозился, пытаясь освободиться. По его лицу текли слезы злости.
– Проси пощады! – Кулаки заработали снова.
– Будет тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Франт побрел прочь, отряхивая пыль с куртки, прихрамывая, всхлипывая, сопя и клятвенно обещая всыпать Тому, если «поймает его еще раз».
Вдоволь насмеявшись, Том направился было домой в самом отличном расположении духа, но едва повернулся к чужаку спиной, как тот схватил камень и швырнул в Тома, угодив ему между лопатками, а сам пустился наутек, прыгая, как водяная антилопа. Том преследовал его до самого дома и заодно выяснил, где этот щеголь живет. С полчаса он караулил у ворот, выманивая неприятеля на улицу, но тот только корчил рожи из окна. В конце концов появилась мамаша щеголя, обругала Тома, назвав скверным, грубым и невоспитанным мальчишкой, и велела ему убираться прочь. Что он и сделал, предупредив леди, чтоб ее расфуфыренный сынок больше не попадался ему на дороге.
Домой Том вернулся уже в темноте и, осторожно влезая в окно, наткнулся на засаду в лице тети Полли. Когда же она обнаружила, в каком состоянии его одежда и физиономия, ее решимость заменить ему субботний отдых каторжными работами стала тверже гранита.
Глава 2
Наступило великолепное субботнее утро. Все вокруг дышало свежестью, сияло и было полно жизни. Радостью светилось каждое лицо, и бодрость ощущалась в походке каждого. Белая акация была в полном цвету, и ее сладкий аромат разливался повсюду.
Кардиффская гора – ее вершина видна в городке откуда угодно – сплошь зазеленела и казалась издалека чудесной безмятежной страной.
Именно в этот момент на тротуаре появился Том с ведром разведенной известки и длинной кистью в руках. Однако при первом же взгляде на забор всякая радость покинула его, а душа погрузилась в глубочайшую скорбь. Тридцать ярдов сплошного дощатого забора высотою в девять футов! Жизнь представилась ему бессмысленной и тягостной. С тяжелым вздохом окунув кисть в ведро, Том мазнул ею по верхней доске забора, повторил эту операцию дважды, сравнил ничтожный выбеленный клочок с необозримым континентом того, что еще предстояло покрасить, и в отчаянии уселся под деревом.
Тем временем из калитки вприпрыжку выскочил негритенок Джим с ведром в руке, напевая «Девушки из Буффало». До этого дня Тому казалось, что нет скучнее занятия, чем носить воду из городского колодца, но сейчас он смотрел на это иначе. У колодца всегда полно народу. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчат там, дожидаясь своей очереди, болтают, меняются игрушками, ссорятся, шалят, а порой и дерутся. И хоть до колодца от их дома каких-нибудь полтораста шагов, Джим сроду не возвращался домой раньше чем через час, а бывало и так, что за ним приходилось кого-нибудь посылать. Поэтому Том сказал:
– Слышь-ка, Джим! Давай я сбегаю за водой, а ты тут пока немножко побели.
– Как можно, мистер Том! Старая хозяйка велела мне мигом принести воду и, сохрани бог, нигде не застревать по дороге. Она еще сказала, что мистер Том наверняка позовет меня красить забор, так чтоб я делал свое дело, не совал нос куда не просят, а уж насчет забора она сама распорядится.
– Да что ты ее слушаешь, Джим! Мало ли что она наговорит! Давай ведро, одна нога здесь – другая там, вот и все. Тетя Полли даже не догадается.
– Ох, боязно мне, мистер Том. Старая хозяйка голову мне оторвет. Ей-богу, оторвет!
– Это она-то? Да она и не дерется совсем. Разве что щелкнет по макушке наперстком, только и делов, – подумаешь, важность! Говорит-то она разное, да только от ее слов ничего не делается, разве что иной раз сама расплачется. Джим, ну хочешь, я тебе шарик подарю? Белый, с мраморными жилками!
Джим заколебался.
– Белый и вдобавок мраморный, Джим! Это тебе не фигли-мигли!
– Ох как блестит! Только очень уж боюсь я старой хозяйки, мистер Том…
– Ну хочешь, я покажу тебе свой больной палец?
Марк Твен
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
перевод Корнея Чуковского

Глава I
ТОМ ИГРАЕТ, СРАЖАЕТСЯ, ПРЯЧЕТСЯ
Нет ответа.
Нет ответа.
Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том!
Нет ответа.

Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздёрнула очки на лоб и глянула из-под них: она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были её парадные очки, гордость её сердца: она носила их только «для важности»; на самом же деле они были ей совсем не нужны; с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала не очень сердито, но всё же довольно громко, чтобы мебель могла её слышать:
Ну, попадись только! Я тебя…
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щёткой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у неё не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки.
В жизни своей не видела такого мальчишки!
Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород - заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно дальше, и крикнула:
Позади послышался лёгкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть.
Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал?
Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?
Не знаю, тётя!
А я знаю. Это - варенье, вот что это такое. Сорок раз я говорила тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот прут.
Розга взметнулась в воздухе - опасность была неминуемая.
Ай! Тётя! Что это у вас за спиной!
Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор - и был таков!
Тётя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.
Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он выкидывал со мной всяких штук? Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь. Впрочем, господи боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то другая - разве тут догадаешься, что у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что стоит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются, и я не в силах отхлестать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да простит меня бог. «Кто обходится без розги, тот губит ребёнка», говорит священное писание. Я же, грешная, балую его, и за это достанется нам на том свете - и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесёнок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и оказать не умею, а выпорю - моё старое сердце прямо разрывается на части. Верно, верно оказано в писании: век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошёл в школу: будет лодырничать до самого вечера, и мой долг наказать его, и я выполню мой долг - заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра у всех мальчиков праздник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит трудиться. Опустить ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша.
Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провёл время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритёнку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял три четверти всей работы. Младший брат Тома, Сид (не родной брат, а сводный), к этому времени уже сделал всё, что ему было приказано (собрал и отнёс все щепки), потому что это был послушный тихоня: не проказничал и не доставлял неприятностей старшим.
Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок сахару, тётя Полли задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадёт в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах чудеса ехидного коварства.
Том, - сказала она, - в школе сегодня небось было жарко?
Очень жарко, не правда ли?
И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке?
Тому почудилось что-то недоброе - тень подозрения и страха коснулась его души. Он пытливо посмотрел в лицо тёти Полли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил:
Нет, "м… не особенно.
Тётя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку.
Даже не вспотел, - сказала она.
И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома сухая; никому и в голову не пришло, какая хитрость была у неё на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:
Мы подставляли голову под насос - освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые. Видите?
Тёте Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную косвенную улику! Но тотчас же новая мысль осенила её.
Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не пришлось распарывать воротник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку!
Тревога сбежала у Тома с лица. Он распахнул куртку. Воротник рубашки был крепко зашит.
Ну хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймёшь. Я была уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя: ты хоть и порядочный плут, но всё же оказался лучше, чем можно подумать.
Ей было немного досадно, что её хитрость не привела ни к чему, и в то же время приятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком.
Но тут вмешался Сид.
Что-то мне помнится, - сказал он, - будто вы зашивали ему воротник белой ниткой, а здесь, поглядите, чёрная!
Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..
Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо оказал:
Ну и вздую же я тебя, Сидди!
Укрывшись в надёжном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую - чёрная.
Она и не заметила бы, если б не Сид. Чёрт возьми! То она зашивала белой ниткой, то чёрной. Уж шила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьёшься… А Сида я всё-таки вздую - будет ему хороший урок!
Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.
Впрочем, через две минуты - и даже скорее - он позабыл все невзгоды. Не потому, что они были для него менее тяжки и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способны забывать свои горести, едва только их увлечёт какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлёкся одной драгоценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по-птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно было часто-часто дотрагиваться языком до нёба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается, - если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астроном, открывший в небе новую планету, только радость его была непосредственнее, полнее и глубже.
Летом вечера долгие. Было ещё светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга. К тому же на мальчике был нарядный костюм - нарядный костюм в будний день! Это было прямо поразительно. Очень изящная шляпа; аккуратно застёгнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром, что сегодня ещё только пятница. У него был даже галстук - очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щёголя, и это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтёрханнее казался ему его собственный жалкий костюм и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие франтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному сделать шаг, делал шаг и другой, - но только в сторону, вбок, по кругу. Лицо к лицу и глаза в глаза - так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал:
Хочешь, я тебя вздую!
Попробуй!
А вот и вздую!
А вот и не вздуешь!
Захочу и вздую!
Нет, не вздуешь!
Нет, вздую!
Нет, не вздуешь!
Не вздуешь!
Тягостное молчание. Наконец Том говорит:
Как тебя зовут?
А тебе какое дело?
Вот я покажу тебе, какое мне дело!
Ну, покажи. Отчего не показываешь?
Скажи ещё два слава - и покажу.
Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!
Ишь какой ловкий! Да если бы я захотел, я одною рукою мог бы задать тебе перцу, а другую пусть привяжут - мне за опишу.
Почему ж не задашь? Ведь ты говоришь, что можешь.
И задам, если будешь ко мне приставать!
Ай-яй-яй! Видали мы таких!
Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица! Ой, какая шляпа!
Не нравится? Сбей-ка её у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи.
Сам ты врёшь!
Только стращает, а сам трус!
Ладно, проваливай!
Эй ты, слушай: если ты не уймёшься, я расшибу тебе голову!
Как же, расшибёшь! Ой-ой-ой!
И расшибу!
Чего же ты ждёшь? Пугаешь, пугаешь, а на деле нет ничего? Боишься, значит?
И не думаю.
Нет, боишься!
Нет, не боюсь!
Нет, боишься!

Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит:
Убирайся отсюда!
Сам убирайся!
Не желаю.
И я не желаю.
Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперёд под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не даётся ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгорячённые, красные, они понемногу ослабляют свой натиск, хотя каждый по-прежнему остаётся настороже… И тогда Том говорит:
Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату - он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу - он отколотит!
Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, ещё старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор. (Оба брата - чистейшая выдумка.)
Мало ли что ты скажешь!
Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:
Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдёт за эту черту!
Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:
Ну посмотрим, как ты вздуешь меня.
Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не колотишь?
Чёрт меня возьми, если не поколочу за два цента!
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает Тому.
Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дёргают друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопределённая масса принимает отчётливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками.
Проси пощады! - требует он.
Но мальчик старается высвободиться и громко ревёт - больше от злости.
Проси пощады! - И молотьба продолжается.
Наконец чужой мальчик невнятно бормочет: «Довольно!» - и Том, отпуская его, говорит:
Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Чужой мальчик побрёл прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом «в следующий раз, когда поймает его». Том отвечал насмешками и направился к дому, гордый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живёт. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться прочь.
Том ушёл, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст её сыночку как следует.
Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду: перед ним стояла тётка; и, когда она увидела, что сталось с его курткой и штанами, её решимость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.
Глава II
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МАЛЯР
Наступила суббота. Летняя природа сияла - свежая, кипящая жизнью. В каждом сердце звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каждом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух ароматом. Кардифская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она казалась Обетованной землёй - чудесной, безмятежной, заманчивой.

Том вышел на улицу с ведром извёстки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно мгновенье улетела у него из души, и там - воцарилась тоска. Тридцать ярдов деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, существование - тяжёлою ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в извёстку, провёл ею по верхней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска по сравнению с огромным пространством некрашеного забора! В отчаянии он опустился на землю под деревом. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим. В руке у него было жестяное ведро.
Он напевал песенку «Девушки Буффало». Ходить за водой к городскому насосу Том всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. От вспомнил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты, чернокожие; мальчишки и девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками, ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более полутораста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то почти всегда приходилось бегать за ним.
Слушай-ка, Джим, - сказал Том, - хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я.
Джим покачал головой и сказал:
Не могу, масса Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шёл прямо к насосу и ни с кем не останавливался по пути. Она говорит: «Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой». Она говорит: «Я сама, говорит, пойду смотреть, как он будет белить».
А ты её не слушай! Мало ли что она говорит, Джим! Давай сюда ведро, я мигом сбегаю. Она и не узнает.
Ой, боюсь, масса Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвёт, ей-богу, оторвёт!
Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет напёрстком по голове - вот и всё! Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, ну, да ведь от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе мой белый алебастровый шарик.
Джим начал колебаться.
Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!
Так-то оно так, вещь отличная! А только всё-таки, масса Том, я крепко боюсь старой миссис.
И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на ноге.
Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том разбинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучительной болью в затылке, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тётушка покидала поле битвы с туфлёй в руке и торжеством во взоре.
Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести этот день, и на сердце у него стало ещё тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от всяких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные весёлые игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать. Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рассматривать их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь; всей этой дребедени, пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три-четыре минуты чужого труда, но, конечно, за неё не купишь и получаса свободы! Он снова убрал своё жалкое имущество в карман и отказался от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И вдруг в эту чёрную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение, не меньше - блестящая, гениальная мысль.
Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шёл, а прыгал, скакал и приплясывал - верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждёт от предстоящего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за которым следовали звуки на самых низких нотах: «дин-дон-дон, дин-дон-дон», так как Бен изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся, не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащею важностью, потому что представлял собою «Большую Миссури», сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан, и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он стоит на своём собственном мостике, отдаёт себе команду и сам же выполняет её.
Стоп, машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!
Пароход медленно сошёл с середины дороги, и стал приближаться к тротуару.
Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!
Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.
Задний ход! Право руля! Тш, дилинь-линь! Чшш-чшш-чшш!
Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой колесо в сорок футов.
Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! Чшш-чшш-чшш!
Теперь левая рука начала описывать такие же круги.
Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперёд и направо! Стоп! - Малый ход! Динь дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! Да живей, пошевеливайся! Эй, ты, на берегу! Чего стоишь! Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб! Задний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! Шт! шт! шт! (Машина выпускала пары.)
Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и через минуту сказал:
Ага! Попался!

Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осторожно провёл кистью опять и вновь откинулся назад - полюбовался. Бен подошёл, и встал рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он как ни в чём не бывало упорно продолжал свою работу. Бен оказал:
Что, брат, заставляют работать?
Том круто повернулся к нему:
А, это ты, Бен! Я и не заметил.
Слушай-ка, я иду купаться… да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно, нельзя, придётся работать. Ну конечно, ещё бы!
Том посмотрел на него и сказал:
Что ты называешь работой?
А разве это не работа?
Том снова принялся белить забор и ответил небрежно:
Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе.
Да что ты? Уж не хочешь ли ты оказать, что для тебя это занятие - приятное?
Кисть продолжала гулять по забору.
Приятное? А что же в нём такого неприятного? Разве мальчикам каждый день достаётся белить заборы?
Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением художника водил кистью взад и вперёд, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффектом, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил за каждым его движением, увлекаясь всё больше и больше. Наконец оказал:
Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!
Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:
Нет, нет, Бен… Всё равно ничего не выйдет. Видишь ли, тётя Полли ужасно привередлива насчёт этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, другое дело, но тут она страшно строга - надо белить очень и очень старательно. Из тысячи… даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдётся только один, кто сумел бы выбелить его как следует.
Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать… ну хоть немножечко. Будь я на твоём месте, я б тебе дал. А, Том?
Бен, я бы с радостью, честное слово, но тётя Полли… Вот Джим тоже хотел, да она не позволила. Просился и Сид - не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить эту работу тебе? Если ты начнёшь белить, да вдруг что-нибудь выйдет не так…
Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам тебе серединку вот этого яблока.
Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо… боюсь я…
Я дам тебе всё яблоко - всё, что осталось.
Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на припёке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было: мальчишки то и дело подходили к забору - подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной верёвочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, - и так далее, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались двенадцать алебастровых шариков, обломок зубной «гуделки», осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, шесть хлопушек, одноглазый котёнок, медная дверная ручка, собачий ошейник - без собаки, - рукоятка ножа, четыре апельсиновые корки и старая, сломанная оконная рама.
Том приятно и весело провёл время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых три слоя извёстки! Если бы извёстка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города.
Том оказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему возможно труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу - работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан -удовольствие. В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четвёркой, везущей омнибус за двадцать - тридцать миль, только потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег; но, если бы им предложили жалованье за тот же нелёгкий труд, развлечение стало бы работой, и они сейчас же отказались бы от неё.
Некоторое время Том не двигался с места; он размышлял над той существенной переменой, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб - рапортовать об окончании работы.
Глава III
ЗАНЯТ ВОЙНОЙ И ЛЮБОВЬЮ
Том предстал перед тётей Полли, сидевшей у открытого окошка в уютной задней комнате, которая была одновременно и спальней, и гостиной, и столовой, и кабинетом.
Благодатный летний воздух, безмятежная тишина, запах цветов и убаюкивающее жужжание пчёл произвели на неё своё действие: она клевала носом над вязанием, ибо единственной её собеседницей была кошка, да и та дремала у неё на коленях. Для безопасности очки были подняты вверх и покоились на её сединах.
Она была твёрдо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал, и теперь удивилась, как это у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой.
Том вошёл и опросил:
А теперь, тётя, можно пойти поиграть?
Как! Уже? Сколько же ты сделал?
Всё, тётя!
Том, не лги! Я этого не выношу.
Я не лгу, тётя. Всё готово.
Тётя Полли не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами. Она была бы рада, если бы слова Тома оказались правдой хотя бы на двадцать процентов. Когда же она убедилась, что весь забор выбелен, и не только выбелен, но и покрыт несколькими густыми слоями извёстки и даже по земле вдоль забора проведена белая полоса, её изумлению не было границ.
Ну, знаешь, - оказала она, - вот уж никогда не подумала бы… Надо отдать тебе справедливость, Том, ты можешь работать, когда захочешь. - Тут она сочла нужным смягчить комплимент и добавила: - Только очень уж редко тебе этого хочется. Это тоже надо сказать. Ну, иди играй. И смотри не забудь воротиться домой. Не то у меня расправа короткая!
Тётя Полли была в таком восхищении от его великого подвига, что повела его в чулан, выбрала и вручила ему лучшее яблоко, сопровождая подарок небольшой назидательной проповедью о том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда, кажется нам слаще и милее.
Как раз в ту минуту, когда она заканчивала речь подходящим текстом из евангелия, Тому удалось стянуть пряник.
Он выскочил во двор и увидел Сида. Сид только что стал подниматься по лестнице. Лестница была снаружи дома и вела в задние комнаты второго этажа. Под рукой у Тома оказались очень удобные комья земли, и в одно мгновение воздух наполнился ими. Они бешеным градом осыпали Сида. Прежде чем тётя Полли пришла в себя и подоспела на выручку, шесть или семь комьев уже попали в цель, а Том перемахнул через забор и скрылся. Существовала, конечно, калитка, но у Тома обычно не было времени добежать до неё. Теперь, когда он рассчитался с предателем Сидом, указавшим тёте Полли на чёрную нитку, в душе у него воцарился покой.
Том обогнул улицу и юркнул в пыльный закоулок, проходивший у задней стены тёткиного коровника. Скоро он очутился вне всякой опасности. Тут ему нечего было бояться, что его поймают и накажут. Он направился к городской площади, к тому месту, где, по предварительному уговору, уже сошлись для сражения две армии. Одной из них командовал Том, другой - его закадычный приятель Джо Гарпер. Оба великих военачальника не снисходили до того, чтобы лично сражаться друг с другом, - это больше пристало мелкоте; они руководили сражением, стоя рядом на горке и отдавая приказы через своих адъютантов. После долгого и жестокого боя армия Тома одержала победу. Оба войска сосчитали убитых, обменялись пленными, договорились о том, из-за чего произойдёт у них новая война, и назначили день следующей решающей битвы. Затем обе армии выстроились в шеренгу и церемониальным маршем покинули поле сражения, а Том направился домой один.

Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэчер, он увидел в саду какую-то новую девочку - прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетёнными в две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках. Герой, только что увенчанный славой, был сражён без единого выстрела. Некая Эмми Лоренс тотчас же исчезла из его сердца, не оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эмми Лоренс без памяти, обожает её! Оказывается, это было лишь мимолётное увлечение, не больше. Несколько месяцев он добивался её любви. Всего неделю назад она призналась, что любит его. В течение этих семи кратких дней он с гордостью считал себя счастливейшим мальчиком в мире, и вот в одно мгновенье она ушла из его сердца, как случайная гостья, приходившая на минуту с визитом.
С набожным восторгом взирал он украдкой на этого нового ангела, пока не убедился, что ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки, и начал «фигурять» перед ней, выкидывая (как принято среди мальчуганов) разные нелепые штуки, чтобы вызвать её восхищение. Несколько времени проделывал он все эти затейливо-вздорные фокусы. Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка глянул в ту сторону и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том подошёл ближе и уныло облокотился на забор; ему так хотелось, чтобы она побыла в саду ещё немного… Она действительно чуть-чуть задержалась на ступеньках, но затем шагнула прямо к двери. Том тяжело вздохнул, когда её нога коснулась порога, и вдруг всё его лицо просияло: прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила через забор цветок маргаритки.
Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то интересное. Потом поднял с земли соломинку и поставил её себе на нос, стараясь, чтобы она сохранила равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он всё ближе и ближе подходил к цветку; наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой своё сокровище.
Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстёгивал куртку и прятал цветок на груди, поближе к сердцу или, быть может, к желудку, так как был не особенно силён в анатомии и не слишком разбирался в подобных вещах.
Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забора, по-прежнему выделывая разные штуки. Девочка не показывалась; но Том тешил себя надеждой, что она стоит где-нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради неё. В конце концов он неохотно поплёлся домой, и его бедная голова была полна фантастических грёз.
За ужином он всё время был так возбуждён, что его тётка дивилась: что такое стряслось с ребёнком? Получив хороший нагоняй за то, что кидал в Сида комками земли, Том, по-видимому, не огорчился нисколько.
Он попробовал было стянуть кусок сахару из-под носа у тётки и получил за это по рукам, но опять-таки не обиделся и только сказал:
Тётя, ведь не бьёте вы Сида, когда он таскает сахар!
Сид не мучит людей, как ты. Если за тобой не следить, ты не вылезал бы из сахарницы.
Но вот тётка ушла на кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом. Это было прямо нестерпимо! Но сахарница выскользнула у Сида из пальцев, упала на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком восторге, что удержал свой язык и даже не вскрикнул от радости. Он решил не говорить ни слова, даже когда войдёт тётка, а сидеть тихо и смирно, пока она не опросит, кто это сделал. Вот тогда он расскажет всё, - и весело ему будет глядеть, как она расправится со своим примерным любимчиком. Что может быть приятнее этого! Он был так переполнен злорадством, что едва мог хранить молчание, когда воротилась тётка и встала над осколками сахарницы, меча молнии гнева поверх очков. Том сказал себе: «Вот оно, начинается!..» Но в следующую минуту он уже лежал на полу! Властная рука занеслась над ним снова, чтобы снова ударить его, когда он со слезами воскликнул:
Постойте! Постойте! За что же вы бьёте меня? Ведь разбил её Сид!
Тётя Полли остановилась в смущении. Том ждал, что она сейчас пожалеет его и тем загладит свою вину перед ним. Но едва к ней вернулся дар слова, она только и оказала ему:
Гм! Ну, всё-таки, по-моему, тебе досталось недаром. Уж наверно, ты выкинул какую-нибудь новую штуку, пока меня не было в комнате.
Тут её упрекнула совесть. Ей очень захотелось сказать мальчугану что-нибудь задушевное, ласковое, но она побоялась, что, если она станет нежничать с ним, он, пожалуй, подумает, будто она признала себя виноватой, а этого не допускала дисциплина. Так что она не сказала ни слова и с тяжёлым сердцем занялась обычной работой. Том дулся в углу и растравлял свои раны. Он знал, что в душе она стоит перед ним на коленях, и это сознание доставляло ему мрачную радость. Он решил не замечать заискиваний с её стороны и не показывать ей, что он видит её душевные муки. Он знал, что время от времени она обращает на него горестный взгляд и что в глазах её слёзы, но не желал обращать на это никакого внимания. Он представлял себе, как он лежит больной, умирающий, а тётка наклонилась над ним и заклинает его, чтобы он оказал ей хоть слово прощения; но он поворачивается лицом к стене и умирает, не сказав этого слова. Каково-то ей будет тогда? Он представлял себе, как его приносят домой мёртвым: его только что вытащили из реки, кудри его намокли, и его страдающее сердце успокоилось навеки. Как она бросится на его мёртвое тело, и её слёзы польются дождём, и её губы будут молить господа бога, чтобы он вернул ей её мальчика, которого она никогда, никогда не станет наказывать зря! Но он по-прежнему будет лежать бледный, холодный, без признаков жизни - несчастный маленький страдалец, муки которого прекратились навек! Он так расстроил себя этими скорбными бреднями, что слёзы буквально душили его, ему приходилось глотать их. Всё туманилось перед ним из-за слёз. Всякий раз, когда ему приходилось мигнуть, в его глазах скоплялось столько влаги, что она изобильно текла у него по лицу и капала с кончика носа. И ему было так приятно услаждать свою душу печалью, что он не мог допустить, чтобы в неё вторгались какие-нибудь житейские радости. Всякое наслаждение только раздражало его - такой святой казалась ему его скорбь. Поэтому, когда в комнату влетела, приплясывая, его двоюродная сестра Мери, счастливая, что наконец воротилась домой после долгой отлучки, длившейся целую вечность - то есть неделю, - он, мрачный и пасмурный, встал и вышел из одной двери, в то время как песни и солнце входили вместе с Мери в другую.

Он бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединённые уголки, такие же печальные, как его сердце. Бревенчатый плот на реке показался ему привлекательным; он сел на самый край, созерцая унылую водную ширь и мечтая о том, как хорошо было бы утонуть в одно мгновенье, даже не почувствовав этого и не подвергая себя никаким неудобствам. Потом он вспомнил о своём цветке, достал его из-под куртки - уже увядший и смятый, - и это ещё более усилило его сладкую скорбь. Он стал спрашивать себя, пожалела бы его она, если бы знала, какая тяжесть у него на душе? Заплакала бы она и захотела бы обвить его шею руками и утешить его? Или она отвернулась бы от него равнодушно, как теперь отвернулся от него пустой и холодный свет?
Мысль об этом наполнила его такой приятной тоской, что он стал перетряхивать её на все лады, покуда она не истрепалась до нитки. Наконец он встал со вздохом и ушёл в темноту.
В половине десятого - или в десять часов - он очутился на безлюдной улице, где жила Обожаемая Незнакомка; он приостановился на миг и прислушался - ни звука. В окне второго этажа тусклая свеча озаряла занавеску… Не эта ли комната осчастливлена светлым присутствием его Незнакомки? Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты и встал под самым окном. Долго он смотрел на это окно с умилением, потом лёг на спину, сложив на груди руки и держа в них свой бедный, увядший цветок. Вот так он хотел бы умереть - брошенный в этот мир равнодушных сердец: под открытым небом, не зная, куда приклонить бесприютную голову; ничья дружеская рука не сотрёт смертного пота у него со лба, ничьё любящее лицо не склонится над ним с состраданием в часы его последней агонии. Таким она увидит его завтра, когда выглянет из этого окна, любуясь весёлым рассветом, - и неужели из её глаз не упадёт ни единой слезинки на его безжизненное, бедное тело, неужели из её груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде этой юной блистательной жизни, так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью?
Фыркая и встряхиваясь, ошеломлённый герой вскочил на ноги. Вскоре в воздухе подобно снаряду просвистел некий летящий предмет, послышалось негромкое ругательство, раздался звон разбитого стекла, и небольшая, еле заметная тень перелетела через забор и скрылась во мраке.
Когда Том, уже раздевшись, обозревал свою промокшую одежду при свете сального огарка, проснулся Сид. Быть может, и было у него смутное желание высказать несколько замечаний по поводу недавних обид, но он сразу передумал и лежал очень тихо, так как в глазах Тома он заметил угрозу.
Том улёгся, не утруждая себя вечерней молитвой, и Сид про себя отметил это упущение.
Глава IV
«КОЗЫРЯНИЕ» В ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЕ
Солнце встало над безмятежной землёй и своим ярким сиянием благословляло мирный городок. После завтрака тётя Полли совершила обычное семейное богослужение; оно начиналось молитвой, воздвигнутой на прочном фундаменте библейских цитат, которые она кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева.
Затем Том препоясал, так сказать, свои чресла и принялся набивать себе голову стихами из библии. Сид уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из нагорной проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашёл во всём евангелии. К концу получаса он получил только смутное представление о своём уроке, не больше, потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мери взяла у него книгу и стала спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане.
Блаженные нищие духом… з… э…
Да… нищие… блаженны нищие… э… э…
Духом; блаженны нищие духом… ибо… они…
Ибо их… Ибо их…
Ибо их… Блаженны нищие духом, ибо их… есть царствие небесное. Блаженные плачущие, ибо они… они…
Ибо они… э…
Ибо они УТЕ… Ну, хоть убей - не знаю, что они сделают!
О, утеш… Ибо они утеш… ибо они утеш… э… э… Блаженны плачущие, ибо, ибо… Что же они сделают? Отчего ты не подскажешь мне, Мери? Отчего ты такая бессовестная!
Ах, Том! Несчастный ты, тупоголовый мальчишка! Я и не думаю дразнить тебя! Нет-нет! Просто тебе надо пойти и выучить всё как следует. Не теряй терпения, Том, в конце концов дело наладится, и, если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хорошую вещь. Будь умник, ступай, займись.
Ладно… Что же это будет такое, Мери? Скажи, что это будет такое?
Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала хорошую вещь - значит, хорошую.
Знаю, Мери, знаю. Ладно, пойду, подзубрю!
Действительно, он принялся очень усердно зубрить; под двойным напором любопытства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мери подарила ему новенький нож фирмы Барлоу, стоимостью в двенадцать с половиною центов, и судорога восторга, которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был «всамделишный» нож фирмы Барлоу, и в этом было нечто необычайно величественное. Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные ножи и что от подделки они станут ещё хуже, это великая тайна, которая, можно думать, останется вовеки неразгаданной. Всё же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти в воскресную школу.

Мери дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла; он вышел за дверь, поставил таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место; затем засучил рукава, осторожно вылил воду на землю, вошёл в кухню и принялся что есть силы тереть себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мери отняла у него полотенце.
Как тебе не стыдно, Том! - воскликнула она. - Разве можно быть таким скверным мальчишкой! Ведь от воды тебе не будет вреда.
Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некоторое время стоял над ним, набираясь храбрости, наконец глубоко вдохнул в себя воздух и стал умываться. Когда он вторично вошёл в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыскивая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие у него с лица, не позволяли сомневаться в его добросовестности. И всё же, когда он вынырнул из-под полотенца, результаты оказались не слишком блестящие, так как чистое пространство, славно маска, занимало только часть его лица, ото лба до подбородка; выше и ниже этих границ тянулась обширная, не орошённая водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся тёмной полосой вокруг шеи. Мери энергично взялась за него, и после этого он стал человеком, ничем не отличавшимся от других бледнолицых: мокрые волосы были гладко причёсаны щёткой, коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. (Он тотчас же стал тайком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов; он крепко прижимал их к голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку; они составляли несчастье всей его жизни.) Затем Мери достала для Тома костюм, вот уже два года надевавшийся им только в воскресные дни. Костюм назывался «тот, другой», - и это даёт нам возможность судить о богатстве его гардероба. Когда он оделся, Мери оправила его, застегнула куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щёткой его платье и наконец увенчала его пёстрой соломенной шляпой. Теперь у него стал приличный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал: опрятность и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мери забудет о его башмаках, но надежда оказалась обманчивой: Мери тщательно намазала их, как было принято, салом и принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать то, что он не хочет. Но Мери ласково попросила его:
Ну, пожалуйста, Том… будь умницей.
И он, ворча, натянул башмаки. Мери оделась быстро, и все трое отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мери любили.
Занятия в воскресной школе длились от девяти до половины одиннадцатого; затем начиналась церковная служба. Мери и Сид всегда добровольно оставались послушать проповедь священника, Том также оставался, - но цели у него были более серьёзные.
На церковных скамьях могло разместиться около трёхсот человек; скамьи были с высокими спинками без подушек, здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде узкого ящика из сосновых досок - колокольня. В дверях Том отстал от своих и обратился к одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм:
Послушай-ка, Билли, есть у тебя жёлтый билетик?
Что возьмёшь за него?
А что дашь?
Кусок лакрицы и рыболовный крючок.
Том показал. Вещи были в полном порядке; имущество перешло из рук в руки. Затем Том променял два белых шарика на три красных билетика и ещё отдал несколько безделушек - за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики разных цветов. Это продолжалось десять - пятнадцать минут. Затем он вошёл в церковь вместе с гурьбой опрятно одетых и шумных детей, уселся на своё место и тотчас же затеял ссору с первым попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьёзный, пожилой человек; но едва только учитель отвернулся, Том дёрнул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «ай!» - и снова получил от учителя выговор. Впрочем, и весь класс был, как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю приходилось всё время подсказывать. Но, как бы там ни было, они с грехом пополам добрались до конца урока, и каждый получил свою награду - маленький синий билетик с текстом из библии: синий билетик был платой за два библейских стиха, выученных наизусть. Десять синих билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него; десять красных равнялись одному жёлтому; а за десять жёлтых директор школы выдавал ученику библию в очень простом переплёте. (Стоила эта библия при тогдашней дешевизне всего сорок центов.) У многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть две тысячи стихов, хотя бы в награду им была обещана роскошная библия с рисунками Доре? А вот Мери заработала таким манером две библии - ценой двухлетнего неустанного труда. А один мальчуган из немецкой семьи даже четыре или пять. Однажды он отхватил подряд, без запинки, три тысячи стихов; но такое напряжение умственных способностей оказалось слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом - большое несчастье для школы, так как прежде в торжественных случаях, при публике, директор обыкновенно вызывал этого мальчика «трепать языком» (по выражению Тома). Из прочих учеников только старшие берегли свои билетики и предавались унылой зубрёжке в течение долгого времени, чтобы заработать библию, - так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием. Ученик, получивший библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца других школьников, по крайней мере на две недели, загорались желанием идти по его стопам! Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но нельзя сомневаться, что всё его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с получением библии.
Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закрытый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книга. Директор потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор воскресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке так же неизбежен, как ноты в руке певца, который стоит на концертной эстраде и поёт своё соло, - но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих мучеников никогда не заглядывает.
Директор был плюгавый человечек лет тридцати пяти, стриженый, рыжий, с козлиной бородкой; верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть не до ушей, а острые концы загибались вперёд наравне с углами его рта, изображая собою забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим туловищем, когда нужно было глянуть куда-нибудь вбок. Опорой его подбородку служил широчайший галстук, никак не меньше банкового билета, окаймлённый по краям бахромой; носки его сапог были по тогдашней моде круто загнуты кверху, словно полозья саней, - эффект, которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уолтерса было глубоко серьёзное, сердце было чистое, искреннее: к священным предметам и местам он питал такие благоговейные чувства и так отделял всё святое от грубо-житейского, что всякий раз, когда случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе незаметно для него самого появлялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начал такими словами:
Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и слушать меня возможно внимательнее. Вот так! Так и должны вести себя все благонравные дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно; боюсь, что ей чудится, будто я сижу там, на ветке, и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. (Одобрительное хихиканье.) Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько весёлых и чистеньких личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру.
И так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь директора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется, - следовательно, она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновлявшиеся между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ёрзали, шушукались, и их разнузданность порою дохлёстывала даже до подножия таких одиноких, непоколебимых утёсов, как Мери и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности.
В значительной мере шушукание было вызвано одним обстоятельством, более или менее редкостным, - появлением гостей: вошёл адвокат Тэчер в сопровождении какого-то дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с седеющей шевелюрой, и величавая дама - несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку, Тому всё время не сиделось на месте, он был раздражён и взволнован. Кроме того, его мучили угрызения совести: он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдержать её неясный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась блаженства. Он мгновенно начал «козырять» что есть мочи: тузить мальчишек, дёргать их за волосы, корчить рожи - словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно очаровать девочку и заслужить её одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность: воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком ангела; но память об этом событии была начертана, так оказать, на зыбком песке. Потоки блаженства, которое испытывал Том, смывали её, не оставляя следа.
Гостей усадили на самом почётном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою речь, он представил посетителей школьникам.
Мужчина средних лет оказался весьма важной особой - не более, не менее, как окружным судьёй. Такого важного сановника дети ещё никогда не видали; глядя на него, они спрашивали себя с любопытством, из какого материала он сделан, и не то жаждали услышать, как он рычит, не то боялись, как бы он не зарычал. Он прибыл из Константинополя, лежавшего в двенадцати милях отсюда; следовательно, путешествовал и видел свет; он собственными глазами видел здание окружного суда, на котором, как говорят, цинковая крыша. О благоговении, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во всём классе и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэчер, родной брат адвоката, проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэчер, школьник, тотчас же вышел вперёд - чтобы, на зависть всей школе, показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог слышать перешёптыванья своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой.
Смотри-ка, Джим, он идёт туда! Да гляди же! Никак, он хочет пожать ему руку?.. Смотри! Честное слово, пожимает! Здоровается! Ого-го-го! Тебе небось хотелось бы быть на месте Джеффа?

Мистер Уолтерс «козырял» по-своему, суетливо выказывая своё усердие и свою расторопность: его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог их обрушить, Библиотекарь тоже «козырял», бегая взад и вперёд с целыми охапками книг, страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы «козыряли» по-своему, нежно склоняясь над детьми, - которых они незадолго до этого дёргали за уши, - с улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послушных. Молодые учителя «козыряли», проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внедрением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-то в книжном шкафу, который стоял на виду - рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к нему (с очень озабоченным видом). Девочки, в свою очередь, «козыряли» на разные лады, а мальчики «козыряли» с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шариков жёваной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собственного величия, ибо и он «козырял» на свой лад.
Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства: он жаждал показать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику библию. Но хотя кое-кто из учащихся и скопил несколько жёлтых билетиков, этого было мало: мистер Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах, он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть рассудок мальчугану из немецкой семьи!
И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперёд Том Сойер и предъявляет целую кучу билетиков: девять жёлтых, девять красных и десять синих, и требует себе в награду библию! Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул рукою на Сойера и был уварен, что не видать ему библии в ближайшие десять лет. Но против фактов идти невозможно: вот чеки с казённой печатью, и по ним необходимо платить. Тома возвели на помост, где восседали судья и другие избранники, и само начальство возвестило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние десять лет школа не видывала такого сюрприза; потрясение, вызванное им, было так глубоко, что новый герой как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьёю, и школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти, и больше всего мучились те, которые лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому добиться такого ужасного успеха, продав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрёл во время побелки забора. Они презирали себя за то, что их так легко одурачил этот коварный пройдоха, этот змей-обольститель.
Директор вручил Тому библию со всей торжественностью, на какую был способен в ту минуту, но его речь была не слишком горяча - смутное чувство подсказывало бедняге, что здесь кроется какая-то тёмная тайна: было бы сущей нелепостью предположить, что этот мальчишка скопил в амбарах своей памяти две тысячи снопов библейской мудрости, когда у него не хватает ума и на дюжину.
Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заметил её радость, но он не смотрел на неё. Это показалось ей странным; потом она немного встревожилась; потом в её душу вошло подозрение - вошло и ушло и вошло опять; она стала присматриваться - беглый взгляд сказал ей очень много, и сердце её разбилось, она ревновала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет. И больше всех Тома… да, Тома (она была уверена в этом).
Тома представили судье, но несчастный едва смел дышать, язык его прилип к гортани, и сердце его трепетало - частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным образом потому, что это был её отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться ему, - если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и наконец произнёс:
О нет, не Том, а…
Вот это так. Я знал, что твоё имя, пожалуй, немного длиннее. Хорошо, хорошо! Но всё же у тебя, конечно, есть и фамилия; ты мне её скажешь, не правда ли?
Скажи джентльмену свою фамилию, Томас, - вмешался Уолтерс, - и, когда говоришь со старшими, не забывай прибавлять «сэр». Надо уметь держать себя в обществе.
Томас Сойер… сэр.
Ну вот! Умница! Славный мальчик. Хороший мальчуган, молодчина! Две тысячи стихов - это много, очень, очень много! И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благородным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком; и тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан бесценной воскресной школе, которую посещал в детстве, всем этим я обязан моим дорогим наставникам, которые научили меня трудиться над книгами; всем этим я обязан доброму директору, который поощрял меня, и лелеял меня, и дал мне чудесную библию, красивую элегантную библию, чтобы у меня была собственная библия и чтобы она всегда была при мне; и всё это оттого, что меня так отлично воспитывали». Вот что ты скажешь, Томас, - и ты, конечно, никаких денег не взял бы за эти две тысячи библейских стихов. Никаких, никогда! А теперь не согласишься ли ты сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой, - я знаю, ты не откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь имена всех двенадцати апостолов?.. Ещё бы! Не скажешь ли ты нам, как звали двух первых?
Том дёргал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул, опустил глаза. У мистера Уолтерса упало сердце. «Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый простой вопрос, - сказал он себе, - зачем только судья спрашивает его?» Но всё же он счёл своим долгом вмешаться.
Отвечай же джентльмену, Томас, - не бойся!
Том переминался с ноги на ногу.
Мне-то ты ответишь непременно, - вмешалась дама. - Первых двух учеников Христа звали…
Давид и Голиаф!
Опустим завесу жалости над концом этой сцены.
Глава V
ЖУК-КУСАКА И ЕГО ЖЕРТВА
Около половины одиннадцатого зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и прихожане стали собираться к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись в разные стороны по церковному зданию, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их родители, чтобы всё время быть под надзором старших. Вот пришла тётя Полли; Том, Сид и Мери уселись возле неё, причём Тома посадили поближе к проходу, подальше от раскрытого окна, чтобы он не развлекался соблазнительными летними зрелищами. Молящиеся мало-помалу заполнили все пределы. Вот старый бедняк почтмейстер, видавший некогда лучшие дни; вот мэр и его супруга, - ибо в числе прочих ненужностей в городке был и мэр; вот мировой судья; вот вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая, богатая, щедрая: её дом на холме был не дом, а дворец, единственный дворец в городке; к тому же это был гостеприимный дворец, где устраивались самые роскошные пиршества, какими мог похвастать Санкт-Петербург. Вот скрюченный и досточтимый майор Уорд и его супруга. Вот адвокат Риверсон, новая знаменитость, приехавшая в эти места издалека; вот местная красавица, а за нею целый полк очаровательных дев, разодетых в батисты и ленты; вот юные клерки; все, сколько их есть в городке, стоят в притворе полукруглой стеной - напомаженные обожатели прекрасного пола, - стоят и, идиотски улыбаясь, сосут свои трости, покуда не пропустят сквозь строй всех девиц до последней. Наконец после всех пришёл Вилли Меферсон, Примерный Ребёнок, так заботливо охранявший свою маменьку, будто та была хрустальная. Он всегда сопровождал её в церковь, и все пожилые дамы говорили о нём с восхищением. А мальчики - все до единого - ненавидели его за то, что он такой благовоспитанный, а главное, за то, что его благонравием постоянно «тычут им в нос». Каждое воскресенье у него из заднего кармана, будто случайно, торчал кончик белого носового платка (так было и теперь). У Тома носового платка никогда не водилось, и мальчиков, обладавших платками, он считал презренными франтами.
Когда вся церковь наполнилась народом, колокол зазвонил ещё раз, чтобы предупредить запоздавших, и затем на церковь снизошла торжественная тишина, прерываемая только хихиканьем и шушуканьем певчих на хорах. Певчие всегда хихикают и шушукаются во время церковной службы. В одной церкви я видел певчих, которые вели себя более пристойно, но где это было, не помню. С тех пор прошло много лет, и я позабыл все подробности; кажется, это было где-то на чужой стороне.
Священник назвал гимн, который предстояло прочесть, и стал читать его - с завыванием, излюбленным в здешних краях. Начинал он на средних нотах и, постепенно карабкался вверх, взбирался на большую высоту, делал сильное ударение на верхнем слове и затем вдруг летел вниз головой, словно в воду с трамплина.

Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его все просили декламировать стихи, и, когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать: «Никакие слова не выразят наших восторгов: это слишком прекрасно, слишком прекрасно для нашей бренной земли».
После того как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собраниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень дотянется до Страшного суда, - дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке, даже в больших городах, несмотря на то, что в стране издаётся уйма всевозможных газет. Подобные вещи случаются часто: чем бессмысленнее какой-нибудь закоренелый обычай, тем труднее положить ему конец.
Потом священник приступил к молитве. То была хорошая молитва, великодушная, щедрая, не брезгавшая никакими мелочами; никого не позабыла она: она молилась и об этой церкви, и о маленьких детях этой церкви, и о других церквах, имеющихся здесь в городке; и о самом городке; и об округе; и о штате, и о чиновниках штата, и о Соединённых Штатах; и о церквах Соединённых Штатов; и о Конгрессе, и о президенте; я о членах правительства; и о бедных мореходах, претерпевающих жестокие бури; и об угнетённых народах, стонущих под игом европейских монархов и восточных тиранов; и о просвещённых светом евангельской истины, но не имеющих глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать; и о язычниках далёких морских островов, - и заканчивалось всё это горячей мольбой, чтобы слова, которые окажет священник, дошли до престола всевышнего и были подобны зерну, упавшему на плодородную почву, и дали богатую жатву добра. Аминь.
Послышалось шуршание юбок - прихожане, стоявшие во время молитвы, снова уселись на скамьи. Мальчик, биография которого излагается на этих страницах, не слишком наслаждался молитвой - он лишь терпел её как неизбежную скуку, насколько у него хватало сил. Ему не сиделось на месте: он не вдумывался в содержание молитвы, а лишь подсчитывал пункты, которые были упомянуты в ней, для чего ему не нужно было вслушиваться, так как он издавна привык к этой знакомой дороге, которая была постоянным маршрутом священника. Но стоило священнику прибавить к своей обычной молитве хоть слово, как ухо Тома тотчас замечало прибавку, и вся его душа возмущалась; он считал удлинение молитвы бесчестным поступком, мошенничеством. Во время богослужения на спинку передней скамьи села муха. Эта муха положительно истерзала его: она спокойно тёрла свои передние лапки, охватывала ими голову и полировала её так усердно, что голова чуть не отрывалась от тела и видна была тоненькая ниточка шеи; потом задними лапками она чистила и скоблила крылья и разглаживала их, словно фалды фрака, чтоб они плотнее прилегли к её телу; весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало, потому что, хотя у Тома чесались руки сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что он погубит свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнёс последние слова, рука Тома сама собой прокралась вперёд, и в ту минуту, когда прозвучало «аминь», муха очутилась в плену. Но тётка заметила этот манёвр и заставила выпустить муху.
Священник произнёс цитату из библии и монотонным гудящим голосом начал проповедь, до того скучную, что вскоре многие уже клевали носами, несмотря на то что речь шла и о вечном огне, и о кипящей сере, а число избранных, которым уготовано было вечное блаженство, сводилось к столь маленькой цифре, что такую горсточку праведников, пожалуй, и не стоило спасать. Том сосчитал страницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда мог сказать, сколько в проповеди было страниц, но зато её содержание ускользало от него совершенно. Впрочем, на этот раз кое-что заинтересовало его. Священник изобразил величественную потрясающую картину: как праведники всего мира соберутся в раю, и лев ляжет рядом с ягнёнком, и крошечный ребёнок поведёт их за собой. Пафос и мораль этого зрелища нисколько не тронули Тома; его поразила только та важная роль, которая выпадет на долю ребёнка перед лицом народов всей земли; глаза у него засияли, и он сказал себе, что и сам не прочь быть этим ребёнком, если, конечно, лев ручной.

Но тут опять пошли сухие рассуждения, и муки Тома возобновились. Вдруг он вспомнил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил достать его оттуда. Это был большой чёрный жук с громадными, страшными челюстями - «жук-кусака», как называл его Том. Жук был спрятан в коробочку из-под пистонов. Когда Там открыл коробочку, жук первым долгом влился ему в палец. Понятное дело, жук был отброшен прочь и очутился в проходе между церковными скамьями, а укушенный палец Том тотчас же сунул в рот. Жук упал на спину и беспомощно барахтался, не умея перевернуться. Том смотрел на него и жаждал схватить его снова, но жук был далеко. Зато теперь он послужил развлечением для многих других, не интересовавшихся проповедью. Тут в церковь забрёл пудель, тоскующий, томный, разомлевший от летней жары; ему надоело сидеть взаперти, он жаждал новых впечатлений. Чуть только он увидел жука, его уныло опущенный хвост тотчас поднялся и завилял. Пудель осмотрел свою добычу, обошёл вокруг неё, обнюхал с опаской издали; обошёл ещё раз; потом стал смелее, приблизился и ещё раз нюхнул, потам оскалил зубы, хотел схватить жука - и промахнулся; повторил попытку ещё и ещё; видимо, это развлечение полюбилось ему; он лёг на живот, так что жук очутился у него между передними лапами, и продолжал свои опыты. Потом ему это надоело, потом он стал равнодушным, рассеянным, начал клевать носом; мало-помалу голова его поникла на грудь, и нижняя челюсть коснулась врага, который вцепился в неё. Пудель отчаянно взвизгнул, мотнул головой, жук отлетел в сторону на два шага и опять упал на спину. Те, что сидели поблизости, тряслись от беззвучного смеха; многие лица скрылись за веерами и носовыми платками, а Том был безмерно счастлив. У пуделя был глупый вид - должно быть, он и чувствовал себя одураченным, но в то же время сердце его щемила обида, и оно жаждало мести. Поэтому он подкрался к жуку и осторожно возобновил атаку: наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь его передними лапами, лязгал на него зубами и мотал головой так, что хлопали уши. Но в конце концов и это ему надоело; тогда он попробовал развлечься мухой, но в ней не было ничего интересного; походил за муравьём, приникая носом к самому полу, но и это быстро наскучило ему; он зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и преспокойно уселся на него! Раздался безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви; перед самым алтарём перебежал к противоположному проходу, стрелой пронёсся к дверям, от дверей - назад; он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его боль; наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со скоростью и блеском светового луча. Кончилось тем, что обезумевший страдалец метнулся в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно; вой, полный мучительной скорби, слышался всё тише и тише и наконец замер вдали.

К этому времени все в церкви сидели с пунцовыми лицами, задыхаясь от подавленного смеха. Даже проповедь немного застопорилась. И хотя она тотчас же двинулась дальше, но спотыкалась и хромала на каждом шагу, так что нечего было и думать о её моральном воздействии. Прячась за спинки церковных скамеек, прихожане встречали заглушёнными взрывами нечестивого хохота самые торжественные и мрачные фразы, как будто злосчастный священник необыкновенно удачно острил.
Все вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась и было сказано последнее «аминь».
Том Сойер шёл домой весёлый; он думал про себя, что и церковная служба может быть иной раз не очень скучна, если только внести в неё некоторое разнообразие. Одно омрачало его радость: хотя ему и было приятно, что пудель поиграл с его жуком, но зачем же негодный щенок унёс этого жука навсегда? Право же, это нечестно.
Глава VI
ТОМ ЗНАКОМИТСЯ С БЕККИ
Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он всегда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днём начиналась новая неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу ещё тяжелее.
Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть; тогда он останется дома и не пойдёт в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать! Он исследовал свой организм. Нигде не болело, и он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось, что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли, напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обнаружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача; он уже собирался застонать для начала, но тут же сообразил, что, если он заикнётся о зубе, тётка немедленно выдернет зуб, - а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь другого. Некоторое время ничего не подвёртывалось; затем он вспомнил, как доктор рассказывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозившей ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал исследовать больной палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы признаки этой болезни. Однако попробовать всё-таки стоило, и он принялся усердно стонать.
Но Сид спал и не замечал стонов.
Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно болит.
Сид не проявлял никаких признаков жизни.
Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху и напустил целый ряд чрезвычайно удачных стонов.
Сид продолжал храпеть.
Том вышел из себя. Он сказал: «Сид! Сид!» - и стал легонько трясти спящего. Это подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, фыркнул и уставился на Тома. Том продолжал стонать.
Сид оказал:
Том! Слушай-ка, Том!
Ответа не было.
Ты слышишь, Том? Том! Что с тобою, Том?

Сид, в свою очередь, тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Том простонал:
Оставь меня, Сид! Не тряси!
Да что с тобою, Том? Я пойду и позову тётю.
Нет, не надо, Может быть, это скоро пройдёт. Никого не зови.
Нет-нет, надо позвать! Да не стони так ужасно!.. Давно это с тобою?
Несколько часов. Ой! Ради бога, не ворочайся, Сид! Ты просто погубишь меня.
Отчего ты раньше не разбудил меня, Том? Ой, Том, перестань стонать! Меня прямо мороз продирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит?
Я всё тебе прощаю, Сид!.. (Стон.) Всё, в чём ты передо мной виноват. Когда меня не станет…
Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай… пожалуйста! Может быть…
Я всех прощаю, Сид. (Стон.) Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котёнка и оконную раму отдай, Сид, той девочке, что недавно приехала в город, и скажи ей…
Но Сид схватил одежду - и за дверь. Теперь Том на самом деле страдал, - так чудесно работало его воображение, - и стоны его звучали вполне естественно.
Сид сбежал по лестнице и крикнул:
Ой, тётя Полли, идите скорей! Том умирает!
Умирает?
Да! Да! Чего же вы ждёте? Идите скорей!
Вздор! Не верю!
Но всё же она что есть духу взбежала наверх. Сид и Мери - за нею. Лицо у неё было бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить:
Том! Том! Что с тобой?
Ой, тётя, я…
Что с тобою, что с тобою, дитя?
Ой, тётя, у меня на пальце гангрена!
Тётя Полли упала на стул и сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась и заплакала сразу.
Это привело её в себя, и она оказала:
Ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно: прекрати свои фокусы, и чтобы этого больше не было!
Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том (почувствовал себя в нелепом положении.
Право же, тётя Полли, мне казалось, что палец у меня совсем омертвел, и мне было так больно, что я даже забыл про свой зуб.
Зуб? А с зубом у тебя что?
Шатается и страшно болит, прямо нестерпимо…
Ну, будет, будет, не вздумай только хныкать опять! Открой-ка рот!.. Да, зуб действительно шатается, но от этого ты не умрёшь… Мери, принеси шёлковую нитку и горящую головню из кухни.
Тётечка, не вырывайте, не надо, не рвите его - он уже больше не болит! Провалиться мне на этом месте, если он хоть чуточку болит! Тётечка, пожалуйста, не надо! Я и так всё равно пойду в школу…
Пойдёшь в школу? Так вот оно что! Ты только для того и поднял всю эту кутерьму, чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу! Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты, словно нарочно, надрываешь моё старое сердце своими безобразными выходками!
Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тётя Полли сделала петлю на конце нитки, надела её на больной зуб и крепко затянула, а другой конец привязала к столбику кровати; затем схватила пылающую головню и ткнула её чуть не в самую физиономию мальчика. Миг - и зуб повис на нитке, привязанной к столбику.
Но за всякое испытание человеку даётся награда. Когда Том после завтрака отправился в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота, образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замечательным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим зрелищем; один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев, и слава его мгновенно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что плевать, как Том Сойер, - пустяковое дело, но другой мальчик ответил на это: «Зелен виноград!» - и развенчанный герой удалился с позором.
Вскоре после этого Том повстречался с юным парией Гекльберри Финном, сыном местного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не признававший никаких обязательных правил. И ещё потому, что их дети - все до одного - души в нём не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать ему во всём. Том, как и все прочие мальчишки из почтенных семейств, завидовал отверженному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборванцем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была испещрена разноцветными пятнами и так изодрана, что лохмотья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою развалину обширных размеров; от её полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полумесяца; пиджак, в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже шины; штаны висели на одной подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочились по грязи, если Гек не засучивал их.
Гекльберри был вольная птица, бродил где вздумается. В хорошую погоду он ночевал на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую - в пустых бочках. Ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина. Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра. Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним. Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно. Словом, у него было всё, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все изнурённые, скованные по рукам и ногам «хорошо воспитанные» мальчики из почтенных семейств.
Том приветствовал романтического бродягу:
Эй, Гекльберри! Здравствуй!
Здравствуй и ты, если хочешь…
Что это у тебя?
Дохлая кошка.
Дай-ка, Гек, посмотреть!.. Ишь ты, окоченела совсем. Где ты её достал?
Купил у одного мальчишки.
Что дал?
Синий билетик да бычий пузырь… Пузырь я достал на бойне.
А где ты взял синий билетик?
Купил у Бена Роджерса две недели назад… дал ему палку для обруча.
Слушай-ка, Гек, дохлые кошки - на что они надобны?
Как - на что? А бородавки сводить.
Разве? Я знаю средство почище.
А вот и, не знаешь! Какое?
Гнилая вода.
Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода!
Ничего не стоит? А ты пробовал?
Я-то не пробовал. Но Боб Таннер - он пробовал.
А кто тебе об этом сказал?
Он сказал Джеффу Тэчеру, а Джефф сказал Джонни Бейкеру, а Джонни сказал Джиму Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот и знаю.
Ну, так что же из этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра, его я не знаю. Но я ещё не видывал негра, который не врал бы. Всё это пустая болтовня! Теперь ты мне окажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер?
Да так: взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода.
Ну конечно.
Лицом ко пню?
А то как же?
И при этом говорил что-нибудь?
Как будто ничего не говорил… Но кто его знает? Не знаю.
Ага! Ещё бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берёшься за дело, как самый бестолковый дуралей! Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к нему спиною, сунуть в него руку и сказать:
Ячмень, ячмень да гниль-вода, индейская еда,
Все бородавки у меня возьмите навсегда!
А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на одиннадцать шагов и три раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь, - пропало: колдовство не подействует.
Да, похоже, что это правильный способ, только Боб Таннер… он сводил бородавки, не так.
Да уж наверно не так! Потому-то у него тьма бородавок, он самый бородавчатый из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нём не было бы теперь ни одной бородавки. Я сам их тысячи свёл этой песней, - да, Гек, со своих собственных рук. У меня их было очень много, потому что я часто возился с лягушками. Иногда я вывожу их бобом.
Да, это средство верное. Я и сам его пробовал.
Берёшь боб и разрезаешь его на две части, потом режешь свою бородавку ножом, чтобы достать каплю крови, и мажешь этой кровью одну половину боба, а потом выкапываешь ямку и зарываешь эту половину в землю… около полуночи на перекрёстке дорог, в новолунье, а вторую половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь, будет тянуть и тянуть к себе вторую половину, а кровь тем временем притянет к себе бородавку, и бородавка очень скоро сойдёт.
Верно, Гек, верно, хотя было бы ещё лучше, если бы, закапывая в ямку половину боба, ты при этом приговаривал так: «В землю боб - бородавка долой; теперь навсегда я расстанусь с тобой!» Так было бы ещё сильнее. Так сводит бородавки Джо Гарпер, а уж он бывалый! Где только не был. - доезжал чуть не до Кунвиля… Ну, а как же ты сводишь их дохлыми кошками?
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.
Глава 1
Ответа не было.
Ответа не было.
– Куда подевался этот мальчишка, не постигаю! Том!
Старая леди опустила очки и взглянула поверх них, осматривая комнату, потом приподняла очки и взглянула из-под них. Сквозь очки она редко или никогда не смотрела на такую мелочь, как мальчик, так как это была ее парадная пара, гордость ее сердца, заведенная ради моды, а не для употребления; она с одинаковым успехом могла бы смотреть сквозь пару печных заслонок.
С минуту она озиралась с недоумением, затем сказала без гнева, но достаточно громко, чтобы мебель могла ее слышать:
– Ну, попадись ты мне, я…
Она не закончила, так как в это время нагнулась, чтобы засунуть щетку под кровать, и ей пришлось перевести дух, как бы поставить точку своим усилиям. Она потревожила только кота.
– Никогда мне не сладить с этим мальчишкой.
Она подошла к открытой двери и выглянула в садик, всматриваясь в заросли томатов и дурмана. Тома не было. Тогда она повысила голос в расчете на дальнее расстояние и крикнула:
– То-о-ом!
Позади нее послышался легкий шум, и она обернулась как раз вовремя, чтобы поймать за ворот маленького мальчугана и помешать ему удрать.
– Вот ты где! Я и забыла о чулане. Что ты там делал?
– Ничего.
– Ничего?.. Посмотри-ка на свои руки, посмотри на свои губы. Что это такое?
– Не знаю, тетя.
– А я знаю. Это мармелад, вот что это такое. Сколько раз я тебе говорила, что, если ты будешь трогать мармелад, я тебя выдеру. Подай хлыст.
Хлыст взвился в воздухе. Опасность грозила неминуемая.
– Ай!.. Взгляните назад, тетя!
Старая леди повернулась и машинально схватилась за свои юбки, спасая их, а мальчуган моментально задал стрекача, вскарабкался на высокий забор и исчез за ним. Тетка Полли с минуту стояла в недоумении, а затем благодушно рассмеялась.
– Пора бы мне знать этого негодного мальчишку. Сколько уж раз он устраивал такие же штуки, чтобы отвлечь от себя мое внимание. Но старые дураки неисправимы. Старую собаку не выучишь новым штукам, говорит пословица. И то сказать, ведь он каждый раз выдумывает что-нибудь новое, изволь тут за ним угнаться. Он как будто знает, сколько времени меня можно мучить, прежде чем я рассержусь; знает и то, что если ему удастся рассмешить меня, то его дело в шляпе, и у меня не хватит духу задать ему трепку. Я не исполняю своего долга по отношению к этому мальчику, видит Бог, не исполняю. Кто жалеет розгу, тот губит ребенка, говорит мудрая книга. Я взращиваю грех и погибель для нас обоих, это как Бог свят! В мальчике сидит бес, но как же мне быть-то! Ведь он, бедняжка, сын покойной сестры, и у меня не хватает духу его сечь. Всякий раз, как спущу ему, меня мучает совесть; а как побью, мое старое сердце готово разорваться. Ну, что поделаешь, человек, рожденный женою, краткодневен и насыщен печалями, говорит Писание, и я думаю, так оно и есть. Сегодня вечером он прогуляет школу, и мне придется завтра усадить его за работу, в наказание. Жестоко заставлять его работать в субботу, когда все ребятишки гуляют, но он ненавидит работу больше всего на свете, и мне надо же хоть сколько-нибудь исполнять свой долг по отношению к нему, иначе я погублю этого ребенка.
Том прогулял школу и провел день очень весело. Он вернулся домой как раз вовремя, чтобы помочь Джиму, цветному мальчику, напилить дров на завтра и нащепать лучины к ужину, – по крайней мере, вовремя для того, чтобы рассказать Джиму о своих похождениях, пока Джим исполнил три четверти работы. Младший брат Тома (точнее сводный брат), Сид, уже кончил свою работу (собирание щепок), так как он был тихий мальчик, не сорванец. Пока Том ужинал и по мере возможности таскал сахар, тетка Полли предлагала ему вопросы, полные коварства и чрезвычайно глубокие, так как рассчитывала вытянуть из него важные разоблачения. Подобно многим простодушным существам, она немножко гордилась своим талантом в темной и таинственной дипломатии и свои самые прозрачные намеки считала чудесами тонкого подвоха.
– Том, – сказала она, – в школе было довольно-таки жарко?
– Очень жарко, правда?
– Небось, тебе хотелось выкупаться, Том?
Том встрепенулся, у него мелькнуло подозрение. Он пристально взглянул на тетку Полли, но ничего не прочел на ее лице. Он ответил:
– Нет… так себе, не очень.
Старушка протянула руку и пощупала рубашку Тома.
– Но теперь тебе не жарко, нет?
Ей было лестно думать, как ловко она убедилась, что его рубашка суха, не дав никому понять, что это и было у нее на уме. Но Том уже сообразил, куда ветер дует, и поспешил предупредить новый возможный подвох с ее стороны.
– Мы обливали головы у насоса, и мои волосы еще не совсем высохли. Вот пощупайте.
Тетке Полли было досадно, что она упустила из виду эту маленькую вещественную улику и дала маху. Но тут на нее снова нашло вдохновение.
– Том, тебе ведь не нужно было распарывать ворот рубашки, чтобы намочить голову? Значит, он так и остался, как я его зашила. Расстегни-ка куртку!
Всякий след беспокойства исчез с лица Тома. Он расстегнул куртку. Воротник оказался зашитым.
– Вы подумайте!.. Ну, ступай себе. Я была уверена, что ты прогулял школу и купался. Но я тебя прощаю. Том, я вижу, что ты немножко образумился на этот раз.
Ей было отчасти досадно, что проницательность ее подвела, но и приятно, что Том оказался хоть раз послушным мальчиком.
Но Сидней сказал:
– Как же это, ведь вы, кажется, зашили ему воротник белой ниткой, а у него черная.
– Да, я зашила белой! Том!
Но Том не стал дожидаться последствий. В дверях он сказал:
– Сидди, я тебя вздую за это.
Находясь в безопасном месте, он осмотрел две иголки, приколотые за обшлагом его куртки, – одна с белой, другая с черной ниткой.
– Если бы не Сид, она бы ничего не заметила, – сказал он. – То она зашивает белой, то черной ниткой. Надо бы за этим смотреть, но я всегда забываю. Зато уж и вздую я Сида. Убей меня Бог, если не вздую.
Он не был примерным мальчиком деревни. Впрочем, он очень хорошо знал примерного мальчика и терпеть не мог его.
Минуты две, или даже меньше, спустя, он уже забыл о своих неудачах. Не потому, чтобы они были менее тяжелы и горьки для него, чем неудачи взрослых, но потому, что новый и мощный интерес овладел им и вытеснил их из его души; так ведь и неудачи взрослых забываются в увлечении новыми предприятиями.
Это новое увлечение относилось к интереснейшему способу свиста, которому научил его один негр. Теперь он хотел испытать его на досуге и без помехи. Нужно было во время свиста прижимать язык к нёбу, через коротенькие промежутки времени, – выходило совсем как у птицы, длинная и звонкая трель. Читатель, вероятно, припомнит, как это делается, если был когда-нибудь мальчиком. Усердие и внимание Тома скоро увенчались успехом, и он пошел по улице, с музыкой на губах и восхищением в душе. Он чувствовал себя приблизительно так, как астроном, открывший новую планету. Но без сомнения, преимущество сильного, глубокого, безмятежного наслаждения было на стороне мальчика, а не астронома.
Летние вечера долги. Было еще светло. Внезапно Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, немножко выше него. Новое лицо, какого бы то ни было возраста или пола, было сенсационным явлением в бедной маленькой деревушке С. -Питерсбург. Этот мальчик был хорошо одет, – слишком хорошо для будней. Просто ослепительно. Нарядная шляпа, синяя курточка, застегнутая на все пуговицы, новенькая и чистенькая, и такие же панталоны. На ногах ботинки – а ведь была еще пятница! Мало того, на шее красовался галстук с бантом. Его городской вид задел Тома за живое. Чем дольше Том смотрел на это великолепное явление, тем выше задирал нос на его щегольство и тем оскорбительнее чувствовал непрезентабельность собственной внешности. Оба мальчика молчали. Когда двигался один, двигался и другой, но боком, по косой линии. Они оставались лицом к лицу и не спускали друг с друга глаз. Наконец Том сказал:
– Я тебя тресну!
– Посмотрю я, как ты это сделаешь.
– Очень просто могу сделать.
– Очень просто не можешь.
– А вот могу!
– А вот не можешь.
– Нет, могу.
– Нет, не можешь.
– Не можешь.
Неловкое молчание. Затем Том спросил:
– Как тебя зовут?
– Это не твое дело.
– Захочу, так будет мое.
– Нет, не будет.
– Поговори еще, так увидишь.
– Говорю, говорю, говорю! Ну, что же ты?
– О, ты думаешь, что ты важный франт? Я тебя одной рукой уберу, если захочу.
– Ну, что ж ты не убираешь? Ведь ты говоришь, что можешь это сделать.
– И сделаю, если ты вздумаешь дразнить меня.
– О, да – видал я таких нищих.
– Франт! Ты думаешь, что ты важная птица.
– Ох, какая шляпа!
– Ну-ка, тронь эту шляпу, если она тебе не нравится. Попробуй сбить ее с меня; кто попробует, тому я нос расквашу!
– Сам такой!
– Ты задира и лгун, и ничего не смеешь.
– Ну, – проваливай.
– А вот коли будешь еще приставать ко мне, так я и хвачу тебя камнем по голове.
– Что и говорить, хватишь.
– Ну да, хвачу.
– За чем же дело стало? Болтать болтаешь, а делать не делаешь. Потому что боишься.
– Я не боюсь.
– Нет, боишься.
– Не боюсь.
– Боишься.
Новая пауза, и еще более пристальное разглядыванье и похаживанье друг подле друга. Теперь они стояли плечом к плечу. Том сказал:
– Убирайся отсюда!
– Сам убирайся!
– Я не пойду.
– И я не пойду.
Так простояли они некоторое время, оба отставив ногу под углом для опоры, напирая один на другого изо всех сил и с ненавистью глядя друг на друга. Но никому не удалось сдвинуть другого. После молчаливой борьбы, продолжавшейся до тех пор, пока лица у обоих налились кровью, оба осторожно разошлись, и Том сказал:
– Ты трусишка и щенок. Я скажу про тебя моему старшему брату, а он может тебя мизинцем прищелкнуть; и так и сделает, если я его попрошу.
– Боюсь я очень твоего старшего брата! У меня есть брат, побольше твоего; он его через этот забор перекинет. (Оба брата существовали только в воображении.)
– Вранье.
– Не станет враньем оттого, что ты это говоришь.
Том провел по пыли черту большим пальцем ноги и сказал:
– Попробуй переступить через эту черту, я тебя отколочу так, что не встанешь. Всякий, кто переступит, получит трепку.
Новый мальчик быстро переступил черту и сказал:
– Ну, ты говорил, что отколотишь меня, посмотрим, как ты это сделаешь.
– Не лезь ко мне, лучше убирайся.
– Нет, ты сказал, что отколотишь, – попробуй же.
– Я не я, коли не отколочу за два цента.
Незнакомый мальчик вынул из кармана два медяка и насмешливо протянул их.
Том бросил их на землю.
В следующее мгновение оба мальчика катались и барахтались в пыли, сцепившись, как кошки; с минуту они трепали и таскали друг друга за волосы и за одежду, царапали и разбивали друг другу носы, покрываясь пылью и славой. Затем схватка приняла более определенный характер; в тумане сражения выделилась фигура Тома, который сидел верхом на своем противнике и тузил его кулаками.
– Живота или смерти? – спрашивал он.
Другой мальчик только барахтался, стараясь освободиться. Он плакал, главным образом, от бешенства.
– Живота или смерти? – Расправа продолжалась.
Наконец незнакомец пробормотал сквозь слезы:
«Живота!», и Том выпустил его, сказав:
– Это тебе наука. Вперед смотри, с кем связываешься.
Нарядный мальчик ушел, отряхивая пыль с одежды, всхлипывая, фыркая носом, по временам оглядываясь на Тома и обещая задать ему, если тот попадется ему в другой раз. На это Том отвечал насмешками и пошел своим путем, торжествуя победу; но лишь только он повернулся спиной к новому мальчику, последний схватил камень, швырнул его, попал Тому между плечами и помчался с быстротою антилопы. Том гнался за ним до самого дома и таким образом узнал, где он живет. Тут он постоял некоторое время у ворот, приглашая врага выйти, но враг только строил ему гримасы из окошка и отклонял вызов. Наконец появилась мать врага, назвала гадким, скверным, грубым мальчишкой и потребовала, чтобы он убирался. Тогда он ушел, заявив, что еще посчитается с мальчиком.
Он пришел домой довольно поздно ночью, осторожно влез в окно и попал в засаду, очутившись в руках тетки. Когда она освидетельствовала состояние его костюма, ее решение превратить для него субботу в день пленения и тягостного труда приобрело алмазную твердость.
Твен М.
Марк Твен Том Сойер – сыщик
Марк Твен
Очень опасные и захватывающие приключения Тома Сойера и его друга Гекелъберри Финна – встреча с привидением, обнаружение трупа и т.п. Том неожиданно стал сыщиком – мальчик проявил удивительную наблюдательность и незаурядную дедукцию, что помогло не только разоблачить похитителя бриллианта и раскрыть коварное убийство, но и спасти невинного человека от тюрьмы.
Книга долгое время не издавалась.
Необычайные события, изложенные в этой повести, не придуманы мной, они имели место в действительности, даже публичное признание подсудимого. Я взял эти факты из старого судебного процесса в Швеции, изменил действующих лиц и перенес действие в Америку. Некоторые детали я добавил, но только одна или две из них являются существенными.
Глава I Том и Гек получают приглашение
Это случилось весной, на следующий год после того, как мы с Томом Сойером освободили нашего старого негра Джима, когда его, как беглого ра– ба, посадили на цепь на ферме дяди Сайласа в Арканзасе.
Земля уже начала оттаивать, в воздухе повеяло теплом, и с каждым днем приближалось то блаженное время, когда можно будет бегать босиком, а потом начнется игра «в шарики», «в чижика», можно будет гонять обруч, запускать воздушного змея, – а там, глядишь, уже и лето, и можно купаться. Любой мальчишка в эту пору начинает тосковать и считать дни до лета. В такое время вздыхаешь, грустишь и сам не знаешь, что с тобой творится. Просто места себе не находишь – хандришь, задумываешься о чем-то, и больше всего хочется уйти, чтобы никто тебя не видел, забраться на холм, куда-нибудь на опушку леса, сидеть там и смотреть вдаль на Миссисипи, которая катит свои воды далеко-далеко, на много миль, где леса окутаны словно дымкой и так все вокруг – торжественно, что кажется, будто все, кого ты любишь, умерли, и самому тебе тоже хочется умереть и уйти из этого мира.
Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется. И если уж вы подхватили ее, вам хочется – вы даже сами не знаете, чего именно, – но так хочется, что просто сердце щемит. Если разобраться, то, пожалуй, больше всего вам хочется уехать, уехать от одних и тех же знакомых вам мест, которые вы видите каждый день и которые уже осточертели вам; уехать, чтобы увидеть что-нибудь новенькое. Вот что вам хочется – уехать и стать путешественником, вас тянет в далекие страны, где все так таинственно, удивительно и романтично. Ну а если вы не можете сделать это, то вы согласны и на меньшее: уехать туда, куда возможно, – и на том спасибо.
Так вот, мы с Томом Сойером заболели этой весенней лихорадкой в самой тяжелой форме. Но нечего было и думать, что Тому удастся удрать куда-нибудь, потому что, как он сам объяснил, тетя Полли никогда не позволит ему бросить школу и шататься без дела. Так что настроение у нас с Томом было самое унылое. Сидели мы так однажды вечером на крыльце и болтали, как вдруг выходит тетя Полли с письмом в руке и говорит:
– Том, придется тебе собираться и ехать в Арканзас. Ты зачем-то понадобился тете Салли.
Я чуть не подпрыгнул от радости. Я был уверен, что Том тут же бросится к тетке и задушит ее в объятиях, а он (вы подумайте только) сидел неподвижно, как скала, не вымолвив ни единого слова. Я чуть не заплакал от злости, что он ведет себя как дурак, когда представляется такая замечательная возможность.
Ведь все может погибнуть, если он заговорит и не покажет, как он счастлив и благодарен ей. А Том сидел и раздумывал, пока я от отчаяния уже не знал, что и делать. Наконец он заговорил, да так спокойно, что я просто застрелил бы ею, если бы мог.
– Очень жаль, тетя Полли, – сказал он, – ты меня извини, только я сейчас не могу поехать.
Тетя Полли была так огорошена этой хладнокровной дерзостью, что по крайней мере на полминуты лишилась дара речи, а я воспользовался этой передышкой, чтобы подтолкнуть Тома локтем и прошипеть:
– Ты что, с ума сошел? Разве можно упускать такой случай? Но Том даже глазом не моргнул и только шепнул мне в ответ:
– Гек Финн, неужели ты хочешь, чтобы я показал ей, до чего мне хочется поехать? Она тут же начнет сомневаться, воображать всевозможные болезни, опасности, придумывать всякие возражения – и кончится тем, что она передумает. Предоставь это дело мне, я знаю как с ней обращаться.
Мне все это, конечно, и в голову не пришло бы. Однако Том был прав. Вообще Том Сойер всегда оказывается прав – второй такой головы я не видывал, – всегда знает, что к чему, и готов к любой случайности.
Тетя Полли пришла наконец в себя и напустилась на Тома:
– Извинить его! Он не может! Да я в жизни ничего подобного не слышала! Да как тебе в голову пришло так разговаривать со мной! Немедленно убирайся отсюда и иди укладывать свои вещи. И если я еще раз услышу хоть слово о том, что ты можешь и что нет, то ты увидишь, как я тебя извиню розгой!
Мы помчались в дом, но она успела щелкнуть Тома наперстком по голове, и Том, взлетая по лестнице, притворялся, что хнычет от боли. Очутившись наверху, в своей комнате, Том бросился обнимать меня; он был вне себя от счастья – ведь ему предстояло путешествие! Он сказал мне:
– Мы еще и уехать не успеем, как она начнет жалеть, что отпускает меня, но будет уже поздно. Гордость не позволит ей взять свои слова обратно.
Том собрал вещи в десять минут, – все, кроме тех, которые предстояло укладывать тете Полли и Мэри. Потом мы выждали еще десять минут, чтобы тетя Полли успела остыть и вновь стать милой и доброй. Том объяснил мне, что ей требуется не менее десяти минут, чтобы успокоиться, в том случае если она наполовину выведена из себя, и двадцать минут – когда возмущены все ее чувства; а на этот раз они были возмущены все до единого. Затем мы спустились вниз, сгорая от любопытства и желания узнать, что же написано в письме.
Тетя Полли сидела в мрачной задумчивости, письмо лежало у нее на коленях. Мы присели, и она сказала:
– У них там какие-то серьезные неприятности, и они думают, что ты и Гек поможете им отвлечься, «успокоите» их, как они пишут. Представляю себе, как вы с Геком Финном «успокоите» их! У них есть сосед по имени Брейс Данлеп, который месяца три ухаживал за Бенни, и наконец они наотрез отказали ему. Теперь он злится на них, и это их очень волнует. Как мне кажется, они считают, что он такой человек, с которым лучше не ссориться, и поэтому они стараются всячески ублаготворить его. Они наняли его никчемного братца в работники, хотя у них нет лишних денег и вообще он им совсем не нужен. Кто такие эти Данлепы?
– Они живут в миле от фермы дяди Сайласа и тети Салли. Там все фермы приблизительно в миле друг от друга. А Брейс Данлеп – самый большой богач во всей округе, и у него целая куча негров. Он вдовец, тридцати шести лет, детей у него нет; он ужасно гордится своими деньгами и очень любит всеми командовать, и все его немного побаиваются. По-моему, он просто уверен, что стоит ему только захотеть, и любая девушка с радостью пойдет за него замуж. И то, что он получи отказ от Бенпи, конечно, должно было взбесить его. Ведь он вдвое старше Бенки, а она такая милая и такая красивая, – ну вы ведь сами видели ее. Бедный дядя Сайлас, подумать только, с чем ему приходится мириться; ему и так туго, а он еще должен нанимать этого бездельника Юпитера Даялена только ради того, чтобы угодить его братцу.
– Что это еще за имя – Юпитер? Откуда оно взялось?
– Да это просто прозвище. По-моему, все давным-давно забыли его настоящее имя. Ему сейчас двадцать семь лет, а зовут его так с тех пор, как он впервые пошел купаться. Он разделся, и учитель увидел у него над коленом коричневую родинку величиной с десятицентовую монету, окруженную еще четырьмя маленькими родинками, и сказал, что они похожи на Юпитера и его спутников.
Мальчишкам это показалось очень смешным, и они стали называть его Юпитером. Так он и остался Юпитером. Он высокий, ленивый, хитрый, трусливый, а в общем – довольно добродушный парень. У него длинные каштановые волосы, а борода у него не растет. У него никогда нет ни цента, Брейс кормит его, дает ему свою старую одежду и ни в грош не ставит. А вообще у Юпитера был еще один брат – близнец.
– А какой он?
– Говорят, точная копия Юпитера. Во всяком случае, был таким; только он вот уже семь лет как пропал. Он начал воровать, когда ему было лет девятнадцать – двадцать, и его засадили в тюрьму. А он удрал и исчез – сбежал куда-то на север. Иногда до них доходили слухи, что он занимается воровством и грабежами, но это было давно. Теперь он уже помер. Во всяком случае, они так говорят. Они ничего о нем с тех пор не слышали.
– А как его звали?
– Джек. Наступило длительное молчание – тетя Полли думала.
Наконец она сказала:
– Тетю Салли больше всего беспокоит то, что этот Юпитер доводит дядю до бешенства.
Том очень удивился, да и я тоже.
– До бешенства? Дядю Сайласа? Убей меня бог, тетя, вы шутите! Я не представляю себе, чтобы его вообще можно было рассердить.
– Во всяком случае, тетя Салли пишет, что этот Юпитер доводит дядю просто до бешенства. Временами дядя доходит до того, что может ударить Юпитера.
– Тетя Полли, этого не может быть. Дядя Сайлас мягок, как каша.
– И все-таки тетя Салли волнуется. Она пишет, что из-за этих ссор дядя Сайлас совершенно переменился.
Все соседи уже говорят об этом и, конечно, обвиняют дядю Сайласа, потому что он проповедник и не должен ссориться. Тетя Салли пишет, что ему так стыдно, что он с трудом заставляет себя читать проповеди; и все стали хуже к нему относиться, и его теперь любят гораздо меньше, чем раньше.
– Ну и дела! Вы ведь знаете, тетя Полли, дядя Сайлас всегда был таким добрым, таким рассеянным, не от мира сего – ну просто как ангел! И что с ним произошла, ума не приложу!
Глава II Джек Данлеп
Нам здорово повезло – мы попали на пароход, который плыл с севера в какую-то из мелких рек в Луизиане, так что мы могли проехать всю Верхнюю и Нижнюю Миссисипи прямо до фермы дяди Сайласа в Арканзасе без пересадки в Сент-Луисе – ни много ни мало чуть не тысячу миль.
Пароход нам попался на редкость унылый, пассажиров было совсем мало, все старики и старухи, которые держались подальше друг от друга, дремали, и их вообще не слышно было. Четыре дня ушло на то, чтобы выбраться с верховьев реки, потому что пароход то и дело садился на мель. И все-таки нам не было скучно – разве могут скучать мальчишки, которые путешествуют!
С самого же начала мы с Томом решили, что в соседней с нами отдельной каюте находится какой-то больной, потому что стюард относил туда еду. В конце концов мы спросили об этом у стюарда, – то есть Том спросил. Стюард сказал, что там мужчина, но что он совсем не выглядит больным.
– Как, разве он не больной?
– Понятия не имею, может, и больной, только, по-моему, он просто притворяется.
– А почему вы так решили?
– Да потому, что, если бы он был больным, он хоть когда-нибудь раздевался бы, – как по-вашему? А он никогда не раздевается. Даже сапог не снимает.
– Ну да? Даже когда ложится спать?
– Так и ложится в сапогах. Ну, Тома Сойера хлебом не корми, только дай ему какую-нибудь тайну. Если вы перед ним и передо мной положите рядом тайну и кусок пирога, то вам и предлагать нечего, чтобы мы выбирали то или другое; все решится само собой. Уж такой я человек, что тут же брошусь к пирогу, а Том обязательно бросится к тайне. Люди ведь бывают разные. Да это и к лучшему. Так вот, Том и спрашивает у стюарда:
– А как его фамилия?
– Филлипс.
– А где он сел на пароход?
– Кажется, что в Александрии, в Айове.
– А как по-вашему, что он затеял?
– Понятия не имею, я никогда над этим не задумывался. Вот еще один человек, подумал я, который потянется за пирогом.
– А вы ничего не заметили особенного в том, как он ведет себя, как разговаривает?
– Да нет, ничего. Разве только пугливый он очень, дверь каюты всегда запирает – и днем и ночью. А когда стучишь к нему, никогда не откроет, пока через щелочку не увидит, кто это.
– Черт возьми, это интересно! Хотелось бы мне взглянуть на него. Послушайте, когда вы следующий раз понесете ему еду, как вы думаете, не удастся ли вам пошире открыть дверь и…
– Ничего не выйдет. Он всегда стоит за дверью. Так что из этого ничего не выйдет.
Том подумал, подумал и говорит:
– Вот что! Дайте мне свой фартук, и я утром отнесу ему завтрак. А вам я за это дам двадцать пять центов.
Парень согласился, при условии, если старший стюард не будет против. Том заверил его, что все будет в порядке и что он сумеет договориться со старшим стюардом.
Так оно и получилось. Том условился, что мы оба наденем фартуки и понесем завтрак.
Тому до того не терпелось попасть в соседнюю каюту и раскрыть тайну Филлипса, что он никак не мог заснуть: всю ночь он строил догадки. По-моему, это было вовсе ни к чему, – если вы собираетесь что-то выяснить, что толку гадать заранее и тратить порох попусту? Я лично прекрасно выспался. Плевать мне на тайну этого самого Филлипса, сказал я себе.
Утром мы с Томом надели на себя фартуки, взяли по подносу с едой, и Том постучал в дверь соседней каюты.
Пассажир приоткрыл дверь, впустил нас и быстро захлопнул ее. Бог мой! Как только мы увидели его, мы чуть не выронили наши подносы; а Том воскликнул:
– Юпитер Данлеп! Как вы сюда попасти? Пассажир, ясное дело, остолбенел от удивления; в первую минуту он, похоже, не знал, испугаться ему или обрадоваться, а может, и то и другое вместе, но потом, видимо, решил обрадоваться. Во всяком случае, щеки его опять порозовели, хотя поначалу он ужасно побледнел.
Пока он завтракал, мы разговорились. И он нам заявляет:
– Только я не Юпитер Данлеп. Я вам сейчас расскажу, кто я, если вы поклянетесь, что будете молчать. Дело в том, что я и не Филлипс.
Тут Том ему и выпалил:
– Молчать-то мы будем, но если вы не Юпитер Данлеп, то можете и не говорить, кто вы.
– Почему?
– Потому, что если вы не Юпитер, то вы близнец – Джек. Вы просто копия Юпитера.
– Ты прав, парень. Я и есть Джек. Только ты мне объясни, откуда ты нас, Данлепов, знаешь?
Том рассказал ему о наших приключениях прошлым летом на ферме дяди Сайласа. И когда Джек понял, что нам известно все о его семье, да и о нем самом, он перестал таиться и начал разговаривать совершенно откровенно. Ни чуточки не стесняясь, он признался нам, что был вором, что он занимается этим ремеслом и сейчас, и не сомневается, что будет воровать до конца дней своих. Конечно, заявил он, это жизнь, полная опасностей и…
Тут он затаил дыхание и наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. Мы молчали, и секунду или две в каюте царила глубокая тишина и не было слышно ничего, кроме поскрипывания деревянных перегородок и стука машины под полом.
Затем нам с Томом удалось его успокоить, и мы принялись рассказывать Джеку о его родных, о том, что жена Брейса вот уже три года как умерла и он хотел жениться на Бенни, а она отказала ему; что Юпитер работает у дяди Сайласа и они все время ссорятся; наконец Джек размяк и начал смеяться.
– Ах, черт меня побери! – воскликнул он. – До чего же это приятно, совсем как в былые времена, слушать все эти сплетни! Вот уже больше семи лет, как я ничего не знаю о доме. А что они обо мне говорят?
– Ну, соседи и братья.
– А они никогда и не говорят о вас. Разве только редко-редко когда упомянут случайно.
– Черт! – с изумлением воскликнул Джек. – А почему же они никогда не говорят обо мне?
– Да потому, что они думают, что вы давным-давно умерли.
– А ты не врешь? Дай честное слово! – Джек даже вскочил от возбуждения.
– Честное благородное. Все там уверены, что вас давно нет в живых.
– Тогда я спасен! Ей-богу, я спасен! Я еду домой. Они спрячут меня и спасут. А вы будете молчать. Поклянитесь, что вы никогда на меня не донесете. Ребята, вы должны пожалеть такого беднягу, как я, за которым охотятся днем и ночью и который носу высунуть не может.
Я ведь никогда ничего худого вам не делами и никогда не сделаю, видит бог! Поклянитесь, что вы не выдадите меня и поможете мне спастись.
Конечно, мы поклялись; будь на его месте собака, все равно мы бы не отказались. А он, бедняга, был так счастлив, что не знал, как нас благодарить, готов был просто задушить нас в объятиях.
Мы опять принялись болтать, а Джек вытащил маленький саквояж, попросил нас отвернуться и открыл его. Мы отвернулись, а когда он сказал нам, что можно смотреть, то перед нами оказался совсем другой человек. На нем были синие очки и самого что ни на есть натурального вида каштановые бакенбарды и усы. Родная мать не узнала бы его. Он спросил нас, похож ли он сейчас на своего брата Юпитера.
– Ничуть, – сказал Том, – ничего похожего, кроме разве длинных волос.
– Ладно, я их подстригу покороче, прежде чем приеду к ним. А там Юпитер и Брейс будут держать все в секрете, и я смогу жить у них как чужой. Соседи никогда не узнают меня. Как вы считаете?
Том немного подумал и сказал:
– Конечно, мы с Геком будем молчать, а вот если вы будете разговаривать, то в этом деле есть риск, – может, и небольшой, а все-таки риск. Я что хочу сказать: если вы будете говорить, люди могут обратить внимание, что у вас голос совершенно как у Юпитера, а потом могут припомнить второго близнеца, о котором был слух, что он умер, и догадаться, что все это время он скрывался под чужим именем.
– Ей-богу, ты умный парень! – воскликнул Джек. – Ты совершенно прав. Когда кто-нибудь из соседей будет поблизости, я буду притворяться глухонемым.
Впрочем, я ведь не думал пробираться туда. Я искал какое-нибудь местечко, где я мог бы укрыться от ребят – тех, которые преследуют меня. Там бы я загримировался, переоделся и…
Джек Данлеп побледнел, бросился к двери, прильнул к ней ухом и, тяжело дыша, стал прислушиваться. Нам он прошептал:
– Мне послышалось, что взводят курок. Бог мой, ну и жизнь! Он упал в кресло, совершенно обессиленный и разбитый, и принялся вытирать пот со лба.
Глава III Похищение бриллиантов
С этого утра мы почти все время проводили вместе с Джеком Данлепом и по очереди ночевали у него в каюте на верхней койке. Джек говорил, что он ужасно одинок и очень рад, что при его неприятностях у него есть друзья, с которыми он может поговорить. Мы сгорали от желания узнать его тайну, но Том сказал мне, что лучший способ – не проявлять любопытства, тогда он в каком-нибудь разговоре обязательно проболтается, а если мы будем расспрашивать его, он перестанет нам доверять, и тогда уж из него ничего не вытянешь. Так оно и получилось.
Мы ясно видели, что Джеку хочется рассказать нам все, но каждый раз, когда он, казалось, вот-вот выложит свою тайну, он пугался и начинал говорить о чем-нибудь другом.
Но в конце концов он все-таки не выдержал.
Джек все расспрашивал нас о пассажирах, которых мы видим на палубе, но делал вид, что его это не интересует. Мы рассказали. Однако Джек остался недоволен, он сказал, что мы рассказываем недостаточно подробно, и попросил описать пассажиров во всех деталях. Том описал ему всех. И вот, когда Том дошел до одного из самых неотесанных и оборванных пассажиров, Джек вздрогнул, у него перехватило дыхание, и он пробормотал:
– Бог мой, это один из них! Они здесь, на пароходе, я так и знал. Я надеялся скрыться от них, но никогда не верил, что мне это удастся. Ну, продолжай.
Том стал описывать ему другого противного и грубого палубного пассажира; Джек опять задрожал и сказал:
– Это он! Это второй! Если бы только была хоть одна темная грозовая ночь, я сумел бы сойти на берег. Они наверняка поручили кому-нибудь следить за мной. Они ведь могут пойти в буфет и раздобыть там выпивку, вот они и воспользовались этим, чтобы подкупить какого-нибудь грузчика или юнгу следить за мной. Если бы даже мне удалось ускользнуть на берег так, чтобы никто меня не видел, они все равно узнают об этом самое большее через час.
Тут он принялся ходить взад-вперед по каюте и в конце концов рассказал нам свою историю. Он рассказал нам о всяких своих делах и неудачах, а потом перешел к последнему делу.
– Это была игра на доверии. Мы сыграли ее с ювелирным магазином в Сент-Луисе. Охотились мы за парочкой шикарных брильянтов, крупных, как орехи. Все в городе бегали на них смотреть. Мы были одеты с иголочки и проделали все это среди бела дня. Мы приказали принести нам эти брильянты в гостиницу, а там мы рассмотрим их и решим, покупать ли их. И пока мы рассматривали брильянты, мы подменили их поддельными. Эти-то стекляшки и унес с собой приказчик, после того как мы заявили, что брильянты недостаточно чистой воды, чтобы стоить двенадцать тысяч долларов.
– Двенадцать тысяч долларов! – воскликнул Том. – И вы уверены, что они стоят таких денег?
– До последнего цента.
– И вам удалось их увезти?
– Это было проще простого. Я думаю, что эти ювелиры до сих пор не догадываются, что их обокрали. Но оставаться в Сент-Луисе, конечно, было глупо, и мы стали думать, куда нам скрыться. Один предлагал одно, другой другое, тогда мы бросили монету, и выпала Верхняя Миссисипи. Мы положили брильянты в бумажный пакетик, написали на нем наши имена и отдали их на хранение конторщику в гостинице с условием, чтобы он не отдавал этого пакета никому из нас в отдельности. После этого мы, каждый сам по себе, отправились в город. Вероятно, у всех у нас была одна и та же мысль. Я, конечно, не уверен, но думаю, что дело было именно так.
– Какая мысль? – спросил Том.
– Обокрасть остальных.
– Как, одному забрать все, что вы добыли вместе?
– Конечно. Том Сойер возмутился и заявил, что никогда в жизни не слышал о такой низости. Но Джек Данлеп объяснил, что в их профессии это дело обычное. Если уж ты взялся за такое дело, сказал он, то должен сам защищать свои интересы, никто другой за тебя этого не сделает. Потом он стал рассказывать дальше.
– Понимаете, вся трудность была в том, что невозможно разделить два брильянта между тремя. Вот если бы их было три… но об этом нечего говорить, их было не три, а только два. Так вот, бродил я по самым глухим улочкам и все думал, думал. И наконец я сказал себе – я стяну эти брильянты при первом же удобном случае, приготовлю себе другую одежду и все, что нужно, чтобы меня нельзя было узнать, удеру от своих приятелей и, как только окажусь в безопасности, переоденусь, – пусть они потом найдут меня, если сумеют. Купил я себе фальшивые бакенбарды, очки и вот эту одежду, спрятал все это в саквояж и пошел. Вдруг в одной их тех лавок, где продается всякая всячина, вижу через окно одного из своих приятелей. Это был Бэд Диксон. Сами понимаете, как я обрадовался. Посмотрим, сказал я себе, что он будет покупать. Притаился и слежу. Ну, как вы думаете, что он купил?
– Бакенбарды? – спросят я.
– Да помолчи ты, Гек Финн! Ты ведь только мешаешь. Так что же он купил, Джек?
– Никогда в жизни не догадаешься. Это была всего-навсего отвертка. Просто маленькая отвертка.
– Вот так-так! А зачем она ему понадобилась?
– Вот и я задрался над этим. Это было очень странно. Я просто ничего не мог понять. Стою и думаю, что же он собирается делать с этой штукой? Когда Бэд вышел из магазина, я сначала спрятался, а потом стал следить за ним дальше. Он зашел к старьевщику и купил там красную фланелевую рубаху и еще какие-то отрепья.
Те самые, которые сейчас на нем, – как вы сказали. Потом я отправился на пристань, спрятал свои вещи на пароходе, на котором мы решили уехать вверх по реке, и пошел обратно. Тут мне второй раз чертовски повезло. Я увидел третьего нашего компаньона, когда он покупал старую одежду. Ну, забрали мы наши брильянты и сели на пароход.
Вот тут-то мы и оказались в затруднительном положении: никто из нас не мог лечь спать, – мы должны были сидеть и караулить друг друга. Это было просто ужасно, что мы оказались связанными друг с другом. Дело в том, что мы никогда друзьями не были и сошлись только для этого дела. А недели за две до этого мы вообще перессорились.
Но что поделаешь, когда два брильянта на троих. Ну, мы поужинали, потом часов до двенадцати бродили вместе по палубе и курили, затем спустились в мою каюту, заперли дверь и развернули бумагу, чтобы убедиться, что брильянты на месте. Положили мы наш сверток на нижней койке на самом виду, а сами сидим и сидим. А спать хочется – чем дальше, тем больше, просто сил нет. Наконец первым сдался Бэд Диксон. Когда он уже захрапел во всю мочь, голова у него упала на грудь и стало ясно, что он спит крепким сном, Гэл Клейтон кивнул на брильянты и на дверь – и я его понял. Я дотянулся до бумажного свертка, мы оба с Гэлом встали и замерли – Бэд не пошевелился; тогда я с величайшей осторожностью повернул ключ, нажал ручку двери, мы на цыпочках выбрались из каюты и тихонечко прикрыли за собой дверь.
Кругом все спали, пароход спокойно плыл по широкой реке в туманном свете луны. Мы, не говоря друг другу ни слова, пробрались на верхнюю палубу над кормой и уселись там на световом люке. Нам не нужно было ничего говорить друг другу, каждый из нас отлично понимал, на что мы пошли. Бэд Диксон проснется, обнаружит кражу и бросится сюда, к нам, – этот человек никого и ничего на свете не боялся. Он прибежит сюда, и либо мы должны будем выбросить его за борт, либо он попытается убить нас. При этой мысли меня начинала пробирать дрожь, потому что я не такой храбрец, как некоторые, но я слишком хорошо знал, чем все для меня кончится, если я покажу, что струсил. Я надеялся только на то, что пароход где-нибудь пристанет и мы сможем ускользнуть на берег и избежать таким образом схватки с Бэдом Диксоном. Но надежды на это было мало – на Верхней Миссисипи пароходы редко пристают к берегу.
Время шло, а Бэд Диксон не появлялся. Уже рассветать начало, а его все не было.
– Черт меня побери! – говорю я. – Что ты думаешь по этому поводу? По-моему, здесь что-то не так!
– Ах, дьявол! – восклицает мне в ответ Гэл. – Уж не думаешь ли ты, что он обдурил нас? Разверни-ка бумагу!
Я разворачиваю, и – бог мой! – в ней нет ничего, кроме двух кусочков сахара. Вот почему Бэд Диксон мог сидеть там и спокойно спать всю ночь! Здорово, а? По-моему, очень здорово! У него заранее был заготовлен второй такой же пакетик, и он подменил его у нас под носом.
Мы поняли, как он нас обдурил. Однако надо было что-то придумать, какой-то план. Так мы и сделали. Мы решили, что завернем бумагу точно так, как она была, тихонечко проберемся обратно в каюту, положим ее на старое место, на койку, и притворимся, что мы и не подозреваем, что он обдурил нас и посмеивался над нами, притворяясь, что храпит. А потом мы уж ни на шаг не отстанем от него и в первую же ночь, как окажемся на берегу, напоим его, обыщем и заберем брильянты. Ну, а потом придется прикончить его, если это не будет слишком рискованно. Если нам удастся отобрать у него добычу, волей-неволей от него нужно будет избавиться, а не то он наверняка будет нас преследовать и так или иначе прикончит нас. По правде говоря, я не очень-то надеялся на этот план. Напоить-то мы его напоим – от выпивки он никогда не откажется, – а что толку от этого? Его можно хоть год обыскивать и так и не найти…
Вот тут-то меня и осенило, я чуть не задохнулся от волнения! Мне в голову пришла такая догадка, что я почувствовал, словно у меня мозги все перевернулись. И, черт побери, я сразу обрадовался и успокоился. Понимаете, я сидел, сняв сапоги, чтобы ноги немного отдохнули, и как раз в этот момент я взял один сапог, чтобы надеть, и случайно глянул на каблук. Тут меня и осенило! Вы помните о той маленькой отвертке?
– Ну еще бы, конечно! – в возбуждении воскликнул Том.
– Так вот, когда я взглянул на этот каблук, я понял, где он спрятал брильянты! Смотрите на мой каблук. Видите, здесь есть стальная пластинка, и прикреплена она маленькими винтиками. У Бэда нигде больше не было винтиков, кроме как на каблуках. И раз ему понадобилась отвертка, то я, кажется, догадался, для чего.
– Гек, вот здорово! – воскликнул Том.
– Надел я, значит, свои сапоги, мы спустились вниз, пробрались в каюту, положили бумажку с двумя кусочками сахара на койку, уселись сами и тихо, спокойно слушаем, как храпит Бэд Диксон. Очень скоро уснул и Гэл Клейтон, но я держался. Никогда в жизни я не был таким бодрым, как тогда. Я надвинул шляпу пониже, чтоб не видно было лица, а сам шарю глазами по полу, ищу обрезки кожи. Долго я так высматривал, даже начал подумывать, что, может, моя догадка неправильна, и наконец все-таки заметил их. Кусочек кожи лежал у стенной перегородки, почти такого же цвета, как ковер. Это был маленький круглый кусочек, не толще моего мизинца.
Значит, на месте этого кусочка лежит сейчас брильянт, сказал я себе. Через некоторое время я увидел и вторую такую же пробку.
Нет, вы подумайте, какой хладнокровной продувной бестией оказался этот Бэд! Он продумал весь свой план и заранее знал, что мы будем делать; и мы, как два идиота, точно проделали все, как он хотел. Он остался сидеть в каюте, и у него было сколько угодно времени, чтобы отвинтить стальные пластинки на своих каблуках, вырезать в них две ямки, запрятать туда брильянты и привинтить пластинки обратно. Он дал нам украсть кусочки сахара и сидеть потом всю ночь ждать его, чтобы выбросить за борт. И клянусь дьяволом, мы именно так и сделали!
По-моему, это было здорово хитро придумано.
– Еще бы! – с восторгом воскликнул Том.
Глава IV Трое спящих
– Так мы весь день и просидели, притворяясь, что наблюдаем друг за другом. И должен вам сказать, что для двух из нас это была паршивая работа и нам было чертовски трудно притворяться. К вечеру мы высадились в одном из маленьких городков в штате Миссури, не доезжая Айовы, поужинали в местной гостинице и взяли себе наверху комнату с койкой и двуспальной постелью. А когда мы туда отправились – впереди хозяин с сальной свечой, а за ним все гуськом, причем я последним, – я спрятал свой саквояж в темной прихожей под столом. Мы запаслись виски и сели играть в карты по маленькой. Но как только Бэд начал пьянеть, мы перестали пить, а его продолжали угощать. И так мы его угощали, пока он не свалился со стула и не захрапел.
Тут мы и приступили к делу. Я предложил разуться, чтобы не шуметь, и снять с Бэда сапоги, чтобы легче его было переворачивать и обыскивать. Так мы и сделали. Я поставил свои сапоги рядом с сапогами Бэда, чтобы они были под рукой. Потом мы раздели Бэда и принялись шарить по его карманам, в швах, в носках, в сапогах, в его вещах – повсюду. Брильянтов нигде не было. Когда мы нашли отвертку, Гэл мне и говорит:
– Как ты думаешь, зачем она ему понадобилась? Я сказал, что понятия не имею, а как только он отвернулся, сунул ее в карман. Наконец Гзлу все это надоело, у него что называется руки опустились, и он мне говорит:
– Пора бросить это дело. А я только этого и ждал. И говорю ему:
– Есть одно место, где мы еще не искали.
– У него в животе.
– Ах, черт меня побери! Мне это и в голову не пришло. Вот уж когда мы до них добрались! А как мы их достанем?
– А вот как, – говорю ему, – ты оставайся здесь с ним, а я пойду разыщу аптеку, и там я наверняка достану кое-что, чтобы его вывернуло наизнанку вместе с брильянтами.
Гэл согласился на этот план, и тут я прямо у него на глазах надеваю сапоги Бэда вместо своих, и он ничего не замечает. Сапоги оказались немного велики мне, но хуже было бы, если б они были малы. В прихожей я прихватил свой саквояж и через минуту уже был на улице и припустил по дороге вдоль реки со скоростью пять миль в час.
Так вот, должен вам сказать, это совсем не такая плохая штука – ходить на брильянтах. Прошло минут пятнадцать, и я подумал, что отмахал уже больше мили, а в той комнате в гостинице все спокойно. Еще пять минут, и я сказал себе, что нас разделяет уже гораздо большее пространство, а Гэл начинает удивляться, что могло со мной случиться. Еще пять минут – и я представляю себе, что он уже беспокоится – ходит, наверное, по комнате. Еще пять минут – я одолел мили две с половиной, а он уже в полном волнении – не иначе как ругается последними словами. Еще немного – и я себе говорю: прошло сорок минут – он уже понимает, – тут что-то неладно. Пятьдесят минут – и он наконец догадался! Он решил, что, пока мы обыскивали Бэда, я нашел брильянты, спрятал их в карман и виду не показал. Теперь он бросается в погоню за мной. Он начнет разыскивать в пыли свежие следы, но они с таким же успехом могут повести его вниз по реке, как и вверх.
И вот тут-то я увидел человека, который ехал навстречу мне на муле, и я, не подумав, вдруг бросился в кусты. Такая глупость! Когда этот человек поравнялся со мной, он остановился и некоторое время ожидал, пока я выйду, а потом поехал дальше. Только я уж больше не веселился. Я сказал себе, что этой глупостью испортил все дело, что не миновать мне беды, если только этот человек повстречается с Гэлом Клейтоном.
Часам к трем утра я добрался до Александрии, увидел там у пристани этот пароход и ужасно обрадовался, потому что решил, что я теперь в полной безопасности. Уже рассветало. Я поднялся на борт, взял эту каюту, переоделся в новое платье и поднялся в рубку лоцмана, чтобы понаблюдать, хотя и считал, что большой нужды в этом нет. Сижу там, думаю о своих брильянтах и все жду, когда пароход отчалит. Жду, жду – а он не отплывает.
Оказывается, чинили машину, а я ничего не знал; мне, понимаете, очень редко приходилось ездить на пароходах.
Короче говоря, так мы стояли до самого полудня, только я задолго до этого спрятался в своей каюте, потому что перед завтраком я увидел вдалеке человека, который шел к пристани, и походка у него была похожа на походку Гэла Клейтона. Мне просто нехорошо стало. Я сказал себе: если он узнает, что я нахожусь на этом пароходе, то я попал, как мышь в мышеловку. Ему нужно будет только следить за мной и ждать, ждать, пока я сойду на берег, в полной уверенности, что он остался за тысячу миль, сойти вслед за мной, идти за мной до какого-нибудь подходящего места, заставить меня отдать ему брильянты, а после этого… я-то знаю, что он сделает потом! Это ужасно, ужасно! А теперь получается, что и второй на борту. Вот уж не везет мне, ребята, так не везет! Но вы ведь поможете мне спастись, правда ведь?
Мальчики, вы не бросите несчастного, за которым охотятся чтобы убить его? Вы спасете меня? Я буду благословлять землю, по которой вы ходите!
Мы успокоили Джека и улеглись спать, сказав, что придумаем какой-нибудь план и поможем ему, а он не должен так бояться. Вскоре к нему вернулось хорошее настроение, он отвинтил стальные пластиночки на своих каблуках, вытащил брильянты и принялся поворачивать их и так и эдак, любоваться ими, восхищаться. И что правда, то правда, когда свет падал на брильянты, они выглядели замечательно – они вроде бы вспыхивали, и вокруг них словно разливалось сияние. И все-таки я подумал, что Джек порядочный дурак. Если бы я был на его месте, я отдал бы эти брильянты тем парням, и пусть бы они сошли на берег и оставили меня в покое. Но Джек был сделан из другого теста. Он говорил, что в этих брильянтах целое состояние и что он не в силах с ними расстаться.
Наш пароход дважды останавливался, чтобы чинить машину, и стоял подолгу, один раз – ночью; но было не так уж темно, и Джек побоялся сходить. А вот когда мы остановились в третий раз, случай оказался подходящим.
Во втором часу ночи пароход причалил у дровяного склада, милях в сорока от фермы дяди Сайласа. Ночь была темная, и собирался дождь. Тут Джек решил попытать счастья и попробовать незаметно удрать. На пароход начали грузить дрова. Вскоре дождь полил как из ведра, да еще поднялся сильный ветер. Ну, ясно, все матросы, которые носили дрова, нахлобучили на головы мешки, чтобы прикрыться от дождя. Мы нашли такой же мешок для Джека, и он, прихватив свой саквояж, сошел на берег вместе с матросами. Когда мы увидели, что он миновал освещенное факелом место и исчез в темноте, мы наконец вздохнули с облегчением. Только радость наша оказалась преждевременной. Кто-то, я думаю, сообщил им, потому что минут через десять его два компаньона стремглав бросились вслед за ним на берег и пропали из виду. До самого рассвета мы с Томом ждали и надеялись, что они вернутся, только они так и не вернулись. Мы совсем расстроились и пали духом. Единственная наша надежда была, что Джек намного опередил их и они не найдут его следов, а он сумеет добраться до фермы своего брата, спрятаться там и будет наконец в безопасности.
Джек собирался идти вдоль реки и просил нас, чтобы мы узнали, дома ли Брейс и Юпитер и нет ли там кого-нибудь чужого, а после захода солнца прибежали и рассказали бы все ему. Он сказал, что будет ждать нас в маленькой платановой рощице позади табачной плантации дяди Сайласа, у дороги, – место такое, что там никто не бывает.
Долго сидели мы с Томом и обсуждали, удалось ли ему от них скрыться, и Том сказал, что если эти парни пустились вверх по реке, вместо того чтобы направиться вниз, тогда все в порядке, – только вряд ли так оно получится. Может быть, они знают, откуда Джек родом.
Скорее всего, они двинутся куда надо, будут весь день следить за ним, – а он ведь ничего не подозревает, – и как только стемнеет, убьют его и заберут сапоги. Так что у нас с Томом на душе было очень скверно.
Глава V Трагедия в роще
Машину чинили до конца дня, и мы добрались до места только на закате и, никуда не заходя, бросились к платановой роще, чтобы объяснить Джеку, почему мы задержались, и попросить его подождать, пока мы сходим к Брейсу и узнаем, как там обстоят дела. Когда мы, потные и запыхавшиеся от быстрой ходьбы, добрались до опушки леса и ярдах в тридцати впереди показалась платановая роща, мы увидели двух мужчин, вбегавших в рощу, и услышали отчаянные крики о помощи. «Ну вот, – сказали мы, – значит, убили беднягу Джека». Перепугались мы насмерть, бросились к табачной плантации и спрятались там. А дрожали мы так, словно и одежда нас уже не грела.
Только мы успели прыгнуть в канаву, как мимо нас стремглав пробежали двое мужчин и скрылись в роще, а еще через секунду из рощи выбежало уже четверо: двое удирали со всех ног, а двое других преследовали их.
Мы лежали ни живы ни мертвы и прислушивались, что будет дальше; но ничего не было слышно, кроме стука наших сердец. Мы думали о том страшном, что лежит там, под платанами; и мне все казалось, что где-то рядом с нами привидение, так что меня холодный пот прошибал.
За деревьями взошла луна, огромная, круглая и яркая, похожая на лицо, выглядывающее из-за тюремной решетки. Кругом появились черные тени и белые пятна, которые перемещались, повеял ночной ветерок, и стало до жути тихо, словно на кладбище. И вдруг Том прошептал:
– Смотри, что это?
– Перестань, – говорю я ему, – нельзя так пугать людей. Я и без того чуть не умираю от страха.
– Смотри сюда, говорю тебе! Там, между платанами, что-то виднеется.
– Перестань, Том!
– Оно ужасно высокое!
– Господи, спаси нас!
– Помолчи! Оно идет сюда! Том был так взволнован, что у него дух захватывало.
Тут я уже не выдержал – я должен был взглянуть. Теперь мы оба стояли на коленях, приподнявшись над перекладиной изгороди, и смотрели не отрываясь, а душа у нас ушла в пятки. Оно двигалось по направлению к нам, сначала оно еще было в тени деревьев, и мы не могли рассмотреть его как следует, потом оно приблизилось и вступило в полосу лунного света – и тут мы оба нырнули в нашу канаву: это был дух Джека Данлепа! В этом мы не сомневались.
Минуту или две мы не могли пошевелиться. За это время привидение исчезло. Тогда мы начали шептаться.
Том заговорил первым:
– Обычно они всегда туманны и расплывчаты, как будто сделаны из дыма, а это привидение совсем не такое.
– Да уж, – говорю я, – я совершенно ясно видел очки и бакенбарды.
– Да и все на нем яркое, словно на нем праздничный костюм – клетчатые брюки, зеленые с чер1Яэ1м…
– И вельветовый жилет в красную и желтую клетку…
– А на брюках у него кожаные штрипки, и одна болтается…
– А шляпа!..
– Да уж, странная шляпа для привидения! Понимаете, дело в том, что такие шляпы – черные, с твердыми полями и высоким круглым верхом, похожие на сахарную голову, – только в этом году вошли в моду.
– Ты не заметил, Гек, волосы у него остались прежними?
– Нет… Сначала мне показалось, что такие же, а потом вроде нет.
– Я тоже не заметил. А вот саквояж с ним был, это я видел.
– И я. Слушай, Том, а разве саквояж может стать привидением?
– Ну вот! На твоем месте, Гек Финн, я не проявлял бы такого невежества. Все, что есть у привидения, тоже становится привидением. Они же, как и все, должны иметь свои вещи. Ты же сам видел, что вся его одежда тоже стала привидением, а чем саквояж от нее отличается? Конечно, он тоже стал привидением. Это было справедливо. Мне нечего было возражать. В это время мимо нас прошли Билл Уиверс со своим братом Джеком, и мы услышали, как Джек сказал:
– Как ты думаешь, что он тащил?
– Откуда я знаю, что-то тяжелое.
– Да уж, он весь согнулся. Наверное, какой-нибудь негр стащил кукурузу у проповедника Сайласа.
– Наверное. Потому я и не скажу, что видел его.
– Кто? Юпитер Данлеп?
– Ну, не знаю. Наверное, там. Я видел его с час назад, как раз перед заходом солнца. Он копал там что-то вместе с проповедником. Он сказал, что вряд ли пойдет с нами сегодня, но если мы хотим, то сможем взять его собаку.
– Небось устал, бедняга!
– Да уж, работает он прилежно, ничего не скажешь!
Это было второе сентября, суббота. Никогда не забуду этого дня. Скоро вы сами поймете почему.
Глава VI Как добыть бриллианты
Так мы тащились вслед за Джимом и Лемом, пока не добрались до заднего перелаза, где стояла хижина, в которой был заперт наш негр Джим, когда мы его освобождали. Тут нас окружили собаки, прыгая и приветствуя лаем, в доме горел свет, так что мы уже перестали бояться и собирались перелезть во двор, как вдруг Том говорит мне:
– Подожди, присядь-ка на минутку.
– Что такое? – спрашиваю я.
– Есть дело, и серьезное, – говорит он. – Ты, конечно, думаешь, что мы немедленно побежим рассказывать родным о том, кто лежит убитый там, под платанами, о мошенниках, которые убили его, о брильянтах, которые они утащили с трупа, – что мы выложим всю эту историю и о нас пойдет слава, будто мы больше всех знаем об этом деле?
– Ну еще бы! Ты не был бы Томом Сойером, если бы упустил такой случай. Уж я-то знаю, что когда ты примешься рассказывать, то разукрасишь все как надо.
– А что ты скажешь, – совершенно спокойно заявляет он мне, – если я сообщу тебе, что не собираюсь ничего рассказывать?
Я был поражен, услышав от него такие слова.
– Скажу, что это чепуха. Ты ведь шутишь, Том Сойер?
– Так вот, ты сейчас сам увидишь. Скажи мне, привидение было босое?
– Нет. Ну и что из этого?
– Подожди, подожди, сейчас поймешь. Были на нем сапоги?
– Конечно, я ясно видел их.
– Ты можешь поклясться, что видел их?
– Конечно.
– Ну и я могу. А понимаешь ли ты, что это значит?
– Ничего не понимаю. Что это значит?
– А вот что. Это значит, что брильянты не достались ворам!
– Вот так штука! Почему ты так думаешь?
– Я не думаю, я знаю. Разве брюки, и очки, и бакенбарды, и саквояж, и все его вещи не превратились в привидения? Все, что на нем было, все превратилось в привидения. А из этого ясно, что его сапоги тоже превратились в привидения, потому что они были на нем в тот момент, когда Джек стал привидением. И если это не доказательство того, что сапоги грабителям не достались, хотел бы я знать, какое тебе еще нужно доказательство.
Нет, вы подумайте только. Такой головы, как у этого парня, я никогда еще не встречал. У меня ведь тоже есть глаза, и я тоже все видел, но мне и в голову не придет такое. А вот Том Сойер другой человек. Когда Том Сойер смотрит на какую-нибудь вещь, то эта вещь встает на задние лапы и разговаривает с ним, она просто раскрывает ему все свои секреты. Право, я такой головы не встречал еще.
– Том Сойер, – сказал я, – я еще раз скажу то, что говорил уже много раз: я недостоин чистить твои башмаки! Ну да ладно, это к делу не относится. Господь бог создал нас всех, и одним он дал глаза, которые ничего не видят, а другим дал глаза, которые видят все; а для чего он это сделал – не нам судить. Значит, так и надо было, иначе он бы устроил это по-другому. Теперь я понял, что воры не унесли брильянтов. А вот почему, как ты думаешь?
– Да потому, что те двое спугнули их раньше, чем они успели снять с трупа сапоги.
– Вот оно как? Все понятно. Только скажи мне, Том, почему бы нам не пойти и не рассказать все это?
– Да ну тебя, Гек Финн, неужели ты сам не понимаешь? Ты сообрази, что будет дальше? Завтра утром начнется расследование. Те двое расскажут, как они услышали крики и прибежали туда, но слишком поздно, чтобы спасти незнакомца. Потом присяжные будут долго болтать и наконец вынесут решение, что человек этот был застрелен, или зарезан, или его стукнули чем-нибудь по голове и по воле господа бога он отдал ему душу. После этого его похоронят, а вещи продадут с аукциона, чтобы оплатить расходы. Вот тут-то и придет наш черед.
– Каким образом, Том?
– Мы купим эти сапоги за пару долларов! Я чуть не задохнулся от восторга.
– Господи, Том, так мы получим брильянты!
– А как же ты думал! За их находку будет наверняка объявлена большая награда – тысяча долларов, не меньше. И мы ее получим! Ну а теперь пошли в дом. И не забудь, что мы ничего не знаем ни о каком убийстве, ни о каких брильянтах, ни о каких ворах.
Мне оставалось только вздохнуть по поводу такого решения. Я бы, конечно, продал эти брильянты – да, да, уважаемые господа! – за двенадцать тысяч долларов. Но я промолчал. Все равно спорить с Томом толку не было.
Я спросил только:
– Том, а как мы объясним тете Салли, где мы пропадали столько времени?
– Ну, это я предоставляю тебе, – заявил он. – Я рассчитываю, ты что-нибудь придумаешь.
Вот он всегда такой – строгий и щепетильный. Никогда сам не будет врать.
Мы прошли через большой двор, узнавая на каждом шагу знакомые предметы, которые так приятно было опять увидеть, подошли к крытому проходу между большим бревенчатым домом и кухней, – на стене, как и всегда, висели все те же вещи, даже застиранная зеленая рабочая куртка дяди Сайласа с капюшоном; на ней была грубая белая заплата между лопатками, так что всегда казалось, что в дядю Сайласа кто-то засадил снежком. Мы подняли щеколду и вошли.
Тетя Салли в этот момент рвала и метала, дети жались в одном углу, а старик, укрывшись в другом, молился о ниспослании помощи в час нужды. Тетя Салли бросилась нам навстречу, смеясь и плача, закатила нам обоим по оплеухе, сжала нас в объятиях, расцеловала и выдала нам еще по одной пощечине. Казалось, ей это никогда не надоест, так она была рада видеть нас. А потом она сказала:
– Где же вы шлялись все это время, негодные бездельники? Я уж до того беспокоилась, что не знала, что и делать. Ваши вещи привезли уже бог знает когда, и я уже четыре раза заново стряпала ужин, чтобы накормить вас получше, как только вы приедете, пока у меня уж окончательно не лопнуло терпенье, и я теперь готова заживо с вас шкуру снять. Бедненькие мои, вы же, наверное, умираете с голода! А ну, все за стол, быстрей, не тратьте зря времени.
Ну и приятно же было, должен вам сказать, опять, как когда-то, сидеть за столом, а перед тобой этот вкуснейший ржаной хлеб, и свиные отбивные, и вообще все, что можно пожелать на этом свете. Дядя Сайлас выдал нам одно из самых своих замысловатых благословений, в котором сложных оборотов было не меньше, чем слоев в луковице, и пока ангелы разбирались в этом, я мучительно придумывал, как же мне объяснить причину нашего опоздания. Когда нам положили еду на тарелки и мы принялись за дело, тетя Салли сразу же спросила меня об этом, и я принялся мямлить:
– Да вот, понимаете… миссис…
– Гек Финн! С каких это пор я стала для тебя «миссис»? Или я когда-нибудь скупилась на подзатыльники и поцелуи для тебя с того дня, как ты появился в этой комнате и я приняла тебя за Тома Сойера и благодарила бога за то, что он послал мне тебя, хотя ты наговорил мне сорок бочек вранья, а я, как дурочка, всему поверила? Зови меня, как и раньше, тетей Салли.
Так я и сделал и говорю ей:
– Так вот, мы с Томом решили пройтись пешком и подышать лесным воздухом, и тут мы встретили Лема Биба и Джима Лейна, а они предложили нам пойти вместе с ними собирать чернику и сказали, что они могут взять собаку Юпитера Данлепа, так как они только что говорили с ним…
– А где они его видели? – спросил дядя Сайлас. Я посмотрел на него, удивившись, почему это он заинтересовался такой мелочью, и вижу, что он ну прямо впился в меня глазами, так его это задело. Я удивился и даже растерялся, но потом собрался с мыслями и говорю ему:
– Да когда он вместе с вами копал что-то, перед заходом солнца или около этого.
Дядя Сайлас только хмыкнул, вроде как разочарованно, и перестал меня слушать. Тогда я решил продолжать и говорю:
– Ну так вот, как я уже объяснял…
– Достаточно, дальше ты можешь не продолжать! – прервала меня тетя Салли. Она с возмущением смотрела на меня в упор. – Гек Финн, – сказала она, – может быть, ты объяснишь, с чего это они собрались за черникой в сентябре в наших краях?
Тут я понял, что запутался, и прикусил язык. Тетя Салли подождала, по-прежнему глядя на меня в упор, и наконец заявила:
– И как могла прийти людям в голову такая идиотская мысль – идти собирать чернику ночью?
– Да ведь они… мэм, э-э… они сказали, что у них есть фонарь, и что…
– Замолчи, с меня хватит! И скажи-ка мне, что они собирались делать с собакой? Охотиться с нею на чернику?
– Я думаю, мэм, что они…
– Ну а ты. Том Сойер, какое вранье ты собираешься добавить к этому вороху лжи? Ну-ка, говори, только, прежде чем ты начнешь, предупреждаю тебя, что я не верю ни одному твоему слову. Я прекрасно знаю, что вы с Геком Финном занимались тем, чем не следовало, я ведь отлично знаю вас обоих. А теперь объясни мне про собаку, и про чернику, и про фонарь, и про всю эту чепуху.
И не вздумай водить меня за нос, слышишь?
Том напустил на себя весьма обиженный вид и с достоинством заявил:
– Мне очень жаль, что Гека ругают за то, что он оговорился, а это со всяким может случиться.
– Как же это он оговорился?
– Он сказал «черника», вместо того чтобы сказать «земляника».
– Тетя Салли, вы по незнанию и, конечно, не намеренно, впали в ошибку. Если бы вы изучали естественную историю, как полагается, вы бы знали, что во всем мире, за исключением Арканзаса, землянику всегда ищут с собакой… и с фонарем…
Но тут она обрушилась на него, словно снежная лавина, и совершенно подавила его. Она была в такой ярости, что слова не успевали выскакивать у нее изо рта, они изливались сплошным нескончаемым потоком. А Тому только этого и нужно было. Он всегда так – даст ей повод, разозлит ее и предоставит ей выкричаться. После этого всякое упоминание о том, из-за чего шел спор, так будет раздражать ее, что она никогда уже ни слова не скажет и другим не позволит. Так оно и случилось. Когда тетя Салли пришла наконец в изнеможение и должна была остановиться, он совершенно спокойно начал:
– И все-таки, тетя Салли…
– Замолчи! – закричала она. – Я не желаю больше слушать об этом! Таким образом, нам больше ничего не грозило и никто к нам больше не приставал с этим опозданием. Том провел это дело блестяще.
Глава VII Ночное наблюдение
Бенни во время ужина казалась ужасно огорченной и то и дело вздыхала, но вскоре она принялась расспрашивать нас о Мэри, о Сиде, о тете Полли; потом и тучи, омрачавшие тетю Салли, разошлись, к ней вернулось ее обычное хорошее настроение, и она тоже начала забрасывать нас вопросами. Таким образом, конец ужина прошел весело и приятно. Один только дядя Сайлас не принимал никакого участия в нашем разговоре, он был рассеян, без конца вздыхал и явно был чем-то обеспокоен. Очень тяжело было видеть его таким унылым, расстроенным и встревоженным.
Вскоре после ужина явился негр, постучал в дверь, просунул голову внутрь и, держа в руке старую соломенную шляпу и расшаркиваясь и кланяясь, сказал, что масса Брейс стоит у перелаза и ждет своего брата; ему надоело ждать его с ужином, и не будет ли масса Сайлас так добр и не скажет ли, где Юпитер?
Я никогда раньше не видел, чтобы дядя Сайлас разговаривал с таким раздражением. Он закричал:
– Разве я сторож брату его? – Тут он сразу как будто сник; похоже было, что он пожалел, что сказал так, и деликатно продолжал: – Ты только не передавай "твоему хозяину того, что я сказал. Билли; я стал очень раздражителен последнее время, и ты застал меня врасплох. И вообще я нехорошо себя чувствую и с трудом соображаю.
Скажи ему, что его брата здесь нет.
Негр ушел, а дядя Сайлас принялся ходить взад и вперед, бормоча что-то себе под нос и ероша волосы. Было просто до невозможности жалко смотреть на него. Тетя Салли шепнула нам, чтобы мы не обращали на дядю внимания, потому что это смущает его. С тех пор, сказала тетя Салли, как начались все эти неприятности, он все время вот так думает и думает, и ей кажется, что когда на него такое находит, то он сам вряд ли понимает, где он и что с ним. И еще она добавила, что дядя Сайлас теперь гораздо чаще бродит во сне, чем раньше, а иногда во сне ходит по дому и даже по двору, и если, сказала тетя Салли, мы его встретим в такую минуту, то надо оставить его в покое и не трогать. По ее мнению, это не причиняет ему вреда, а может быть, даже идет на пользу.
В такие дни помочь ему может одна только Бенни. Она одна знает, когда его нужно успокаивать, а когда лучше оставить его в покое.
А дядя Сайлас продолжал ходить взад и вперед по комнате и бормотать что-то про себя, пока не утомился, тогда Бенни подошла к нему, взяла его за руку, другой рукой обняла и увела. Дядя Сайлас улыбнулся ей и, нагнувшись, поцеловал ее. Лицо его мало-помалу стало спокойнее, и Бенни уговорила его уйти в его комнату. Они так были ласковы друг с другом, что на них было умилительно смотреть.
Тетя Салли принялась укладывать детей спать, нам с Томом стало скучно, и мы пошли погулять при луне, забрели в огород, сорвали арбуз и за разговором съели его.
Том сказал мне, что он готов держать пари, что ссоры происходят по вине Юпитера, и он, Том, при первой же возможности, постарается быть при такой ссоре и понаблюдать. И если он прав, то сделает все возможное, чтобы дядя Сайлас прогнал Юпитера.
Так вот мы часа два сидели, курили, болтали и объедались арбузами; наконец стало совсем поздно, и когда мы вернулись, в доме все было темно и тихо, все спали.
Том – он всегда все замечает. Вот и теперь он заметил, что старая зеленая рабочая куртка исчезла, и сказал, что, когда мы выходили, она была на месте. Он заявил, что здесь что-то не так, и мы пошли спать.
Мы слышали, как за стеной ходит Бенни по своей комнате, и решили, что она волнуется из-за отца и не может уснуть. Но мы и сами тоже не могли уснуть. Долго мы так сидели, курили, разговаривая вполголоса, и было нам грустно и тоскливо. Мы без конца говорили об убийстве и о привидении и до того сами себя напугали, что уже никак не могли уснуть.
Кругом стояла такая полная тишина, которая бывает только глубокой ночью, и вдруг Том толкнул меня локтем и шепнул мне, чтобы я посмотрел в окно. Мы увидели человека, бесцельно бродившего взад и вперед по двору так, словно он сам не знает, чего ищет. Ночь была довольно темная, и мы не могли рассмотреть его как следует. Но вот он направился к перелазу; свет луны упал на него, – и мы увидели, что в руках у него лопата с длинной рукояткой, а на спине старой рабочей куртки светилась белая заплата. Тут Том и говорит:
– Это он во сне разгуливает. Хотел бы я пойти за ним и посмотреть, куда это он собрался. Смотри, он повернул к табачной плантации. Ну, теперь совсем пропал из виду. Это ужасно, что он не находит себе покоя.
Долго мы ожидали, но он так и не вернулся, а может быть, он вернулся другим путем. Наконец мы совсем уже сомлели от усталости и уснули. Нам снились страшные сны, миллионы страшных снов. Однако перед рассветом мы проснулись – началась гроза, гремел страшный гром и сверкали молнии, ветер сгибал деревья, косой ливень лил как из ведра, и каждая канава превратилась в бурную реку. Том сказал мне:
– Послушай, Гек, я скажу тебе одну очень странную вещь. Вот уж сколько времени прошло с тех пор, как мы пришли сюда вчера вечером, а никто еще не знает об убийстве Джека Данлепа, а ведь те люди, что спугнули Гэла Клейтона и Бэда Диксона, должны были в первые же полчаса разболтать всем встречным, и каждый, кто услышал об этом, сразу побежал бы по соседним фермам, чтобы первым сообщить новость. Еще бы, такого случая у них не было, наверное, лет тридцать. Все это очень странно, Гек, я ничего не понимаю.
Том сгорал от нетерпения, ожидая, когда кончится дождь, чтобы можно было выскочить на улицу, завязать с кем-нибудь разговор и послушать, что будут нам рассказывать об убийстве. Он предупредил меня, что мы должны делать вид, будто ужасно удивлены и поражены.
Едва кончился дождь, мы уже были на улице. Было раннее погожее утро. Мы слонялись по дороге, то и дело встречая знакомых, здоровались с ними, рассказывали о том, когда мы приехали, как дела у нас дома, сколько времени мы собираемся пробыть здесь, и все в таком роде, – и никто, ни один человек, не сказал нам ни слова об убийстве. Это было совершенно непонятно, однако это было так. Том сказал, что если мы пойдем в платановую рощу, то наверняка найдем там труп и ни единой души вокруг. Не иначе, говорит, как те люди, что спугнули воров, гнались за ними так далеко в лес, что воры, может быть, решили воспользоваться этим и сами напали на них. В конце концов, может, они все поубивали друг друга и не осталось никого в живых, кто мог бы рассказать об этом.
Так мы болтали, пока не дошли до платановой рощи.
Тут у меня уж мурашки побежали по спине, и, как Том ни настаивал, я сказал, что дальше ни шагу не сделаю.
Но Том не мог удержаться, он должен был посмотреть, остались ли на трупе сапоги. И он пошел туда, но уже через минуту он выскочил обратно, и глаза у него прямо чуть не на лоб вылезли от удивления.
– Гек, – выдавил он, – его там нет! Я чуть не обалдел.
– Том, – сказал я, – этого не может быть.
– А я тебе говорю, что его там нет. И никаких следов не осталось. Земля немного притоптана, но если там и была кровь, то ее смыло дождем, теперь там, кроме грязи и слякоти, ничего нет.
Наконец я сдался и решился сам пойти туда и посмотреть. Все было так, как сказал Том, – труп исчез бесследно.
– Вот тебе и фунт изюму! – только и мог выговорить я. – Брильянты-то приказали кланяться. Как ты думаешь, Том, может, это воры прокрались обратно и утащили его?
– Похоже на то. Так оно, видимо, и есть. Только вот где они могли спрятать его, как ты думаешь?
– Понятия не имею, – с отвращением сказал я, – и все это меня вообще уже больше не интересует. Сапоги они забрали, и это единственное, что меня волновало. А покойнику долгонько придется лежать здесь в лесу, прежде чем я начну разыскивать его.
Тома, в общем, тоже не очень уж теперь интересовала судьба покойника, ему было просто любопытно, что случилось с трупом. Но он сказал, что мы все-таки должны помалкивать и ничего не рассказывать, потому что вскоре собаки или еще кто-нибудь обязательно наткнется на труп.
Домой к завтраку мы вернулись расстроенные, разочарованные, чувствуя, что нас надули. Никогда еще в жизни я так не расстраивался из-за какого-то покойника.
Глава VIII Разговор с привидением
Невеселый это был завтрак. Тетя Салли выглядела усталой и постаревшей; она словно и не замечала, что дети ссорятся и шумят за столом, – а это было на нее совсем не похоже. Том и я помалкивали, нам было о чем подумать и без разговоров. Бенни, наверное, вообще почти не спала ночью, и когда она чуть приподнимала голову от тарелки и бросала взгляд на своего отца, в ее глазах блестели слезы. Что же касается дяди Сайласа, то завтрак стыл у него на тарелке, а он как будто и не замечал, что перед ним, – он все думал и думал о чем-то своем, так и не проронив ни слова и не прикоснувшись к еде.
И вот в этой тишине в дверь опять просунулась голова тоге же самого негра, и он сказал, что масса Брейс ужасно беспокоится за массу Юпитера, который до сих пор не пришел домой, и не будет ли масса Сайлас так добр…
Негр посмотрел на дядю Сайласа, и слова застряли у него в горле: дядя Сайлас поднялся, держась руками за стол и дрожа всем телом; он задыхался, глаза его впились в негра, он сделал несколько судорожных глотков, схватился рукой за горло и наконец сумел выдавить из себя несколько бессвязных слов:
– Что он… что он… что он думает? Скажи ему… скажи ему… – Тут он без сил рухнул обратно в кресло и пролепетал чуть слышным голосом: – Уходи… уходи…
Перепуганный негр немедленно скрылся, а мы почувствовали себя… – не могу даже сказать, как мы себя чувствовали, но страшно было смотреть, как задыхается наш старый дядя Сайлас, – глаза у него остановились, и вообще у него был такой вид, словно он умирает. Никто из нас не мог сдвинуться с места. Одна только Бенни тихо скользнула вокруг стола, слезы текли по ее лицу; обняв отца, она прижала к своей груди его старую седую голову и принялась баюкать его, как ребенка. При этом она сделала нам всем знак уйти, и мы вышли, стараясь не шуметь, как будто в комнате был покойник.
Мы с Томом пошли в лес, и нам было очень грустно; по дороге мы говорили о том, как все изменилось по сравнению с прошлым летом, когда мы жили здесь. Тогда все было мирно, все были счастливы, кругом все уважали дядю Сайласа, а он сам был весел, простодушен, ласков и чудаковат. А посмотрите на него сейчас! Если он еще не свихнулся, говорили мы, то ему до этого недалеко.
Был чудесный день, яркий и солнечный, мы уходили все дальше за холмы, в сторону прерии, деревья и цветы становились все красивее, и так странно было думать, что в таком замечательном мире существуют горе и беда. И вдруг у меня перехватило дыхание, я уцепился за руку Тома, а все мои печенки и легкие ушли в пятки.
– Вот оно! – прошептал я, и мы оба, дрожа от страха, спрятались за кустом.
– Т-с-с! – зашипел Том. – Ни звука!
Оно сидело, задумавшись, на бревне на лужайке. Я попытался увести Тома, но он не хотел, а сам я не мог пошевелиться. Том стал объяснять мне, что второго случая увидеть это привидение у нас не будет и что он решил как следует насмотреться на него, хотя бы ему угрожала смерть. Мне ничего не оставалось делать, как тоже смотреть, хотя меня от этого било как в лихорадке. Том не мог молчать; но он говорил все-таки шепотом.
– Бедный Джеки, – бормотал он, – он успел переодеться, как собирался. Теперь ты можешь увидеть то, в чем мы не были уверены, – его волосы. Они не такие длинные, как были, он постриг их покороче, как я и говорил. Гек, я никогда в жизни не видел ничего более естественного, чем это привидение.
– И я не видел, – согласился я. – Я его где хочешь узнаю.
– И я узнаю. Оно выглядит совсем взаправдашним человеком, совершенно таким же, как до смерти.
Так мы продолжали глазеть, пока Том не сказал:
– Гек, а знаешь, это привидение какое-то странное. Днем-то ему ходить не положено.
– А ведь и правда, Том! Я никогда не слышал, чтобы они ходили днем.
– Вот именно, сэр! Мало того, что они появляются только по ночам, – они не могут появиться, пока часы не пробьют двенадцать. А с этим привидением что-то не в порядке, помяни мои слова. Я уверен, что оно не имеет права появляться днем. И до чего же естественно оно выглядит! Слушай, Джек ведь собирался изображать из себя глухонемого, чтобы соседи не узнали его по голосу. Как ты думаешь, если мы окликнем его – оно отзовется?
– Бог с тобой, Том, что ты говоришь! Я тут же умру, если ты окликнешь его.
– Да успокойся, я не собираюсь окликать его. Смотри, смотри, Гек, оно чешет голову! Ты видишь?
– Вижу, ну и что из этого?
– Как что! Зачем привидению чесать голову? Там же нечему чесаться: у привидения голова из тумана или чего-то вроде этого. Она не может чесаться! Туман не может чесаться, это каждому дураку ясно.
– Послушай, Том, если оно не должно чесаться и не может чесаться, так чего ради оно лезет рукой в затылок?
А может быть, это просто привычка?
– Нет, сэр, я этого не думаю. Не нравится мне, как ведет себя это привидение. У меня сильное подозрение, что оно не настоящее. Это так же точно, как то, что я сижу здесь. Потому что, если оно… Гек!
– Ну, что еще?
– Гек, ведь кустов сквозь него не видно!
– А ведь правда, Том. Оно плотное, как корова. Я начинаю думать…
– Гек, оно откусило кусок табака! Пусть меня сожрут черти, но привидения не жуют табак – им нечем жевать! Гек!
– Ну, что?
– Гек, это не привидение. Это Джек Данлеп собственной персоной.
– Да ты рехнулся! – воскликнул я.
– Скажи мне, Гек Финн, нашли мы труп в платановой роще?
– Или хоть какие-нибудь следы трупа?
– Вот тебе и отгадка. Там никогда и не было никакого трупа.
– Подожди, Том, но ведь мы слышали…
– Да, мы слышали крики. Но разве это доказывает, что кого-то убили? Конечно, нет. Мы видели четырех бегущих мужчин, потом мы увидели его и решили, что это привидение. А он был таким же привидением, как мы с тобой. Это был не кто иной, как сам Джек Данлеп. И сейчас это Джек Данлеп. Он как и собирался, остриг себе волосы и притворяется, что он здесь никого не знает, точно так, как он и говорил. Привидение! Это он-то привидение? Да он здоров как бык!
Тут я все понял и сообразил, что мы слишком много сами насочиняли. Я очень обрадовался, что Джек жив, и Том тоже обрадовался. Мы стали раздумывать, что предпочтет Джек – чтобы мы делали вид, что никогда его прежде не видели, или наоборот? И Том сказал, что, пожалуй, самое правильное спросить самого Джека, и пошел к нему. Я все-таки держался позади, потому что кто его знает, а может, это все-таки привидение. Том подошел к Джеку и сказал:
– Мы с Геком ужасно рады видеть вас, и вам нечего бояться, что мы проболтаемся. Если вы считаете, что вам безопаснее, чтобы мы, встречая вас, делали вид, что не знаем вас, только скажите, и вы увидите, что можете на нас положиться. Мы лучше дадим отрубить себе руку, чем подвергнем вас хоть какой-нибудь опасности.
В первый момент он посмотрел на нас с удивлением и, пожалуй, без всякого удовольствия, но по мере того как Том говорил, лицо его становилось добрее, а когда Том кончил, он улыбнулся нам, закивал головой, стал делать какие-то знаки руками и замычал «гу-у-у-гу-у-у», как делают глухонемые.
В эту минуту мы увидели Стива Никерсона с женой и детьми, – они живут по ту сторону поля. И Том сказал:
– Вы отлично делаете это, я просто никогда в жизни не видел, чтобы кто-нибудь делал это лучше. Так и надо, притворяйтесь и при нас, для вас это будет практика, и вы не наделаете ошибок. Мы будем держаться подальше и делать вид, что не знаем вас, но в любое время, когда вам потребуется наша помощь, дайте нам только знать.
Потом мы пошли, как будто гуляя, навстречу Никерсонам; ну и они, конечно, принялись расспрашивать, что это за человек, и откуда он, и как его зовут, баптист он или методист, и за какую он партию – за демократов или вигов, и сколько времени он здесь пробудет, – в общем, все те вопросы, которые задают обычно люди, когда появляется новый человек. Собаки, впрочем, делают то же самое. Том сказал, что это глухонемой и он только мычит и размахивает руками, так что понять ничего нельзя. Никерсоны тут же подошли к глухонемому и принялись подшучивать над ним, а мы с тревогой следили за этим. Том сказал, что Джек не сразу привыкнет вести себя как глухонемой и того гляди заговорит прежде, чем успеет сообразить, что делать. Наконец мы убедились, что Джек ведет себя совершенно правильно и отлично делает руками всякие знаки, и отправились в школу, которая находилась милях в трех отсюда, с тем чтобы попасть к перерыву между уроками.
Я был так огорчен тем, что Джек не рассказал о схватке в платановой роще и о том, как его чуть не убили, что у меня даже настроение испортилось; да и Том чувствовал себя так же, но он сказал, что если бы мы были на месте Джека, то мы тоже были бы осторожны и помалкивали, чтобы не попасться.
Мальчишки и девчонки в школе ужасно обрадовались нам, и мы очень весело провели там все время их перерыва. Сыновья Гендерсона по дороге в школу увидели неизвестного глухонемого и рассказали о нем, так что все только о нем и говорили, все хотели увидеть его, потому что никогда в своей жизни не видели глухонемого, словом, это вызвало всеобщее волнение.
Том сказал мне, что молчать при таких обстоятельствах ужасно трудно и что если бы мы сейчас рассказали все, что мы знаем, то стали бы героями, но еще более героически хранить молчание, – может, только двое мальчишек из миллиона способны на это. Вот как рассудил Том Сойер, и попробовал бы кто-нибудь рассудить лучше.
Глава IX Юпитер Данлеп найден
В первые же дни глухонемой стал всеобщим любимцем. Его знали уже на всех фермах в округе, все с ним возились и ухаживали за ним и были ужасно горды тем, что у нас появился такой чудной человек. Одни приглашали его к завтраку, другие к обеду, третьи к ужину, его набивали до отказа кукурузной кашей со свининой и никогда не уставали глазеть на него, дивиться ему, и все старались хоть что-нибудь узнать о нем – уж очень он казался необычной фигурой. Толку от его знаков никакого не было, никто не мог его понять, да и он, наверное, сам не знал, что хотел сказать, однако гудел он исправно, и все вокруг были чрезвычайно довольны и с интересом слушали, как он гудел.
Он повсюду носил с собой грифельную доску и грифель, – все писали на ней вопросы, а он писал ответы; но никто, кроме Брейса Данлепа, не мог ничего разобрать в его каракулях. Брейс говорил, что он тоже не очень-то хорошо разбирается в них, а большей частью догадывается, о чем идет речь. По рассказам Брейса выходило, что глухонемой приехал сюда издалека; раньше он был богат, но мошенники, которым он доверял, разорили его, теперь он нищий и жить ему не на что.
Все кругом расхваливали Брейса Данлепа за его доброту: он дал бедному калеке отдельную деревянную хижину, приказал своим неграм заботиться о нем и носить ему еды, сколько он захочет.
Бывал глухонемой несколько раз и в нашем доме, – дело в том, что дядя Сайлас так страдал сам в эти дни, что всякий другой несчастный человек был ему утешением. Мы с Томом ничего не выдали, что встречали его раньше, и он никак не показывал, что знал нас.
Семья дяди Сайласа разговаривала при глухонемом о своих бедах так, будто его и нет здесь, но мы рассудили, что ничего худого в том, что он слышит эти разговоры, нет. Обычно он не обращал внимания на эти разговоры, но иногда как будто и прислушивался.
Так прошло два или три дня, и все вокруг всерьез встревожились из-за того, что Юпитер Данлеп пропал неизвестно куда. Все расспрашивали друг друга, что же могло с ним случиться. Но никто ничего не знал, все только качали головами и говорили, что это очень странно. Прошел еще один день, и еще один, и все вокруг начали говорить, что, наверное, его убили. Ох, и всполошились тут все! Языки так и трещали. В субботу несколько человек – по двое, по трое – отправились обыскивать лес, в надежде найти останки Юпитера. Мы с Томом взялись помогать им, и это было замечательно интересно. Том был так увлечен этим делом, что ему было уже не до еды, не до отдыха. Он говорил, что если мы найдем труп, то мы прославимся и разговоров об этом будет больше, чем если бы мы утонули.
Остальным поиски скоро надоели, и они их бросили, но только не Том Сойер – это было не в его характере.
В субботу ночью он вовсе не спал – все старался придумать план. И к утру план был готов. Том вытащил меня из постели и, страшно волнуясь, сказал:
– Гек, одевайся скорее, я придумал! Нам нужна ищейка! Через две минуты мы мчались по дороге к городку. У старого Джефа Гукера была ищейка, и Том надеялся выпросить ее. Я ему говорю:
– Слушай, Том, ведь следы слишком старые, и, кроме того, ты же знаешь, прошел дождь.
– Это не имеет никакого значения, Гек. Если тело спрятано где-нибудь здесь, в лесу, то ищейка найдет его.
Если его убили и зарыли, то вряд ли зарыли глубоко, и если собака попадет на это место, то она его наверняка почует. Гек, клянусь, мы прославимся, – это так же верно, как то, что ты родился на свет.
Он весь загорелся, а уж когда Том чем-нибудь загорается, то остановить его невозможно. Так было и на этот раз. Не прошло и двух минут, как он все себе представил – не только отыскал труп, нет – он уже напал на след убийцы. Так как ему и этого было мало, он уже собирался преследовать убийцу до тех пор, пока…
– Ну ладно, – сказал я, – ты сначала найди труп. Я думаю, что пока и этого будет достаточно. А может, никакого трупа нет и в помине и вообще никого не убивали. Этот малый мог просто уйти куда-нибудь, и никто его не убивал.
Том как будто растерялся и говорит:
– Гек Финн, я никогда еще не встречал такого человека, как ты, который бы так старался все испортить.
Если ты сам ни на что не надеешься, так ты и другим мешаешь. Ну что тебе за радость вылить ушат холодной воды на этот труп и говорить, что убийства вообще не было? Никакой. Не понимаю, как ты можешь так делать. Я бы так не сделал по отношению к тебе, ты это знаешь. У нас есть такая замечательная возможность прославиться и…
– Ну, валяй, валяй, – говорю я ему, – я очень извиняюсь и беру свои слова обратно. Я ничего не хотел сказать. Поступай, как ты хочешь. Мне до него нет никакого дела. Если его убили, то я так же рад этому, как и ты, а если его…
– Я никогда не говорил, что я рад, я только…
– Ну ладно, тогда я так же огорчен, как и ты. В общем, пользуйся этой возможностью так, как ты считаешь нужным. А этот тип…
– Никаких разговоров о возможности я не вел, Гек Финн. Никто об этом не говорил. А что касается…
Тут Том забыл, о чем он говорил, и, задумавшись, пошел дальше. Видно было, что он опять постепенно приходит в раж; и действительно, вскоре он заявил мне:
– Гек, это же будет первоклассная штука, если мы найдем труп после того, как все бросили искать его, а потом мы еще и убийцу раскроем. Это будет честь не только для нас, но и для дяди Сайласа, потому что сделаем это мы. Это дело опять поднимет его, вот увидишь.
Однако когда мы заявились в кузницу Джефа Гукера и рассказали ему, зачем пришли, он высмеял всю нашу затею.
– Собаку вы можете взять, – сказал он, – только трупа вы не найдете, потому что его вообще нет. Все бросили искать и правильно сделали. Стоило немного подумать, и все поняли, что никакого трупа нет и в помине. И я вам объясню почему. Вот ответь-ка мне, Том Сойер: почему человек убивает другого человека? Отвечай-ка.
– Ну, как почему…
– Отвечай, отвечай. Ты ведь не дурак. Почему он его убивает?
– Иногда бывает из мести, иногда…
– Стоп. Не все сразу. Месть, говоришь ты. Правильно. А теперь скажи мне, кто мог иметь что-нибудь против этого дурачка? Ну подумай сам, кому могло понадобиться убивать такого кролика, как Юпитер?
Том был озадачен. Я понял, что до сих пор ему и в голову не приходило, что для убийства нужна какая-то причина, а теперь он понял, что действительно вряд ли у кого-нибудь был зуб против такого ягненка, как Юпитер.
А кузнец продолжал:
– Теперь ты сам видишь, что месть тут ни при чем. Ну, что еще может быть? Ограбление? А знаешь что, это похоже на правду. Мы с тобой в самую точку попали! Да, да, не иначе, как кто-то позарился на его подтяжки, ну и…
Тут ему самому до того смешно стало, что он принялся хохотать. Он хохотал, заливался смехом, давился смехом, пока совсем не изнемог, а у Тома был при этом такой унылый и пристыженный вид, что я понимал: он жалеет, что пришел сюда. А старик Гукер не унимался. Он перечислил все возможные причины, по которым один человек может убить другого, и каждому дураку было ясно, что к этому случаю ни одна из этих причин не подходит.
Насмешкам Гукера не было конца, он издевался над всей этой затеей и над теми, кто разыскивал тело. Наконец он сказал:
– Если бы у них была хоть капля мозгов в голове, они бы догадались, что этот ленивый бездельник удрал куда-то просто потому, что решил устроить себе отдых от работы. Через пару недель этот лодырь заявится обратно.
И каково вам тогда будет! Но коли тебе так хочется, дело твое, забирай собаку и отправляйтесь разыскивать останки!
И Джеф Гукер снова разразился своим громыхающим хохотом. Отступать – Тому после всего этого было уже невозможно, и он сказал:
– Хорошо, спускайте ее с цепи. Кузнец спустил собаку, и мы отправились с ней домой, слыша позади себя раскаты хохота.
Собака была замечательная. Ни у одной породы собак нет такого хорошего характера, как у ищеек, а эта ищейка знала и любила нас. Она прыгала и бегала вокруг, радуясь тому, что оказалась на свободе. Но Том до того приуныл, что даже не смотрел на нее. Он сказал, что очень жалеет, что не подумал как следует, прежде чем браться за это идиотское дело. Том уже заранее предполагал, как Джеф Гукер будет рассказывать о нас каждому встречному-поперечному, и шуткам не будет конца.
В таком мрачном настроении плелись мы задворками домой. Как раз когда мы проходили через дальний угол нашей табачной плантации, собака вдруг завыла; мы бросились t ней и увидели, что наша ищейка изо всех сил роет землю, время от времени поднимая морду кверху и воя.
Место, где рыла собака, было довольно четко обозначенным четырехугольником – под дождем земля здесь осела и образовалась впадина. Мы стояли молча, глядя друг на друга. Ищейка разрыла землю на несколько дюймов, схватила что-то зубами и вытащила – это была рука.
Том ахнул и прошептал:
– Бежим, Гек! Это он! Я весь оледенел от страха. Мы бросились к дороге и позвали первых же встретившихся нам людей. Они взяли из сарая лопату и вырыли труп. Все были страшно взволнованы. Лица у покойника разобрать было невозможно, но в этом и не было надобности. Все говорили:
– Бедный Юпитер, это же его одежда, до последней тряпки. Кое-кто бросился, чтобы рассказать эту новость соседям и сообщить судье, чтобы он начал расследовать. А мы с Томом помчались домой. Мы ворвались в комнату, где сидели дядя Сайлас, тетя Салли и Бенни, и Том, запыхавшийся и счастливый, выпалил:
– А мы с Геком нашли труп Юпитера Данлепа! Сами нашли, с ищейкой! Все бросили это дело! Если бы не мы, его никогда бы не нашли! А ведь его убили! Дубинкой или чем-то вроде этого. А теперь я займусь поисками убийцы – и найду его, вот увидите, я найду его!
Тетя Салли и Бенни вскочили, побледнев от изумления, а дядя Сайлас покачнулся в своем кресле и упал на пол, простонав:
– Боже мой, вы его уже нашли!
Глава X Арест дяди Сайласа
Мы в ужасе застыли от этих слов. По крайней мере полминуты мы были не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой. Наконец мы как-то пришли в себя, подняли дядю Сайласа и усадили его в кресло. Бенни принялась ласкать отца, целовать и успокаивать его. Бедняжка тетя Салли старалась делать то же самое. Но только обе они были так потрясены и сбиты с толку, что вряд ли понимали сами, что делают. На Тома страшно было смотреть – он совершенно оцепенел от мысли, что навлек на своего дядю неприятности, в тысячу раз худшие, чем прежде; и, быть может, всего этого не случилось бы, если бы не его желание прославиться и если бы он, по примеру всех остальных, предоставил бы трупу лежать там, где лежал. Но вскоре Том справился со своим волнением и сказал:
– Дядя Сайлас, никогда больше не говорите таких слов. Это опасно, и кроме того, в них нет и тени правды.
Тетя Салли и Бенни очень обрадовались, услышав это, и сами стали говорить то же самое, но старик горестно и безнадежно качал седой головой, слезы катились у него по лицу, и он пробормотал:
– Нет… это я сделал… бедный Юпитер… это я сделал… Слушать его было ужасно. Дядя Сайлас рассказал нам, что все случилось в тот день, когда приехали мы с Томом, как раз перед заходом солнца. Юпитер злил его до тех пор, пока дядя Сайлас совсем не взбесился, схватил палку и изо всей силы стукнул Юпитера по голове так, что тот тут же свалился. Тут дядя Сайлас перепугался и огорчился, стал рядом с ним на колени, поднял его голову и стал умолять Юпитера сказать, что он жив. Прошло немного времени. Юпитер очнулся, увидел, кто поддерживает его голову, вскочил так, словно перепугался до смерти, перемахнул через изгородь и помчался в лес. После этого дядя Сайлас решил, что не так уж сильно стукнул его.
– Однако, – продолжал дядя Сайлас, – это только страх придал ему немного сил, но, конечно, силы вскоре оставили его, и он свалился где-нибудь в кустах; не было никого, кто мог бы помочь ему, и он там скончался.
При этих словах старик опять начал плакать и говорить, что он убийца и что на нем проклятие Каина, что он опозорил всю семью и что его обязательно разоблачат и повесят.
– Нет, нет, – прервал его Том, – никто вас не разоблачит. Вы не убивали его. Одним ударом его нельзя было убить. Это сделал кто-то другой.
– Увы, – причитал дядя, – это сделал я и никто другой. Кто еще мог иметь что-нибудь против него?
И он посмотрел на нас, словно в надежде, что кто-нибудь из нас назовет человека, который имел бы что-нибудь против этого безобидного ничтожества. Но смотреть было бесполезно – нам нечего было сказать. Он понял это и опять впал в отчаяние. Я никогда еще не видел более несчастного и жалкого лица, чем у него в этот момент. Тут Тома осенила неожиданная мысль, и он воскликнул:
– Постойте! Но ведь кто-то закопал его! Кто же… И тут же осекся. Я знал почему. Когда Том произнес эти слова, у меня дрожь пробежала по спине, потому что я вспомнил, как мы в ту ночь видели дядю Сайласа, кравшегося со двора с лопатой в руках. Я знал, что Бенни тоже видела его, потому что она как-то упомянула об этом.
Том тут же постарался переменить тему разговора и стал просить дядю Сайласа никому ничего не говорить.
Мы все тоже принялись уговаривать дядю Сайласа, что он должен помалкивать и что это не его дело наговаривать на самого себя; что если он будет молчать, никто никогда и не узнает, а если все выяснится и на него обрушится беда, то он погубит всю семью и убьет их всех, а пользы никому от этого не будет. Наконец дядя Сайлас дал нам обещание молчать. Мы все вздохнули с облегчением и постарались приободрить дядю. Мы говорили ему, что главное – это чтобы он молчал, и вскоре все это дело забудется. Мы все в один голос уверяли дядю Сайласа, что никто никогда не заподозрит его, никому это и в голову не придет, он ведь такой добрый, и у него такая хорошая репутация; а Том со всей своей ласковостью и сердечностью стал говорить:
– Нет, вы только подумайте одну минутку, – говорил Том, – вы рассудите. Вот перед вами дядя Сайлас, все эти годы он был проповедником, не получая за это ни гроша, все эти годы он делал добро людям, не считаясь ни с чем, всегда, когда это было в его силах. Все его любят и уважают, он всегда был мирным человеком и никогда не вмешивался в чужие дела, все в округе знают, что он не может ударить человека. Подозревать его? Это так же невозможно, как…
– Именем штата Арканзас арестовываю вас по обвинению в убийстве Юпитера Данлепа! – загремел в дверях голос шерифа.
Это было ужасное мгновение. Тетя Салли и Бенни бросились к дяде Саниасу и повисли на нем с причитаниями и плачем. Тетя Салли принялась кричать шерифу и людям, которые пришли с ним, чтобы они убирались, что она не отпустит дядю Сайласа; негры, столпившиеся у дверей, плакали. В общем, я не мог больше переносить этого. Такая сцена могла разбить человеческое сердце, и я вышел из комнаты.
Дядю Сайласа должны были поместить в жалкую деревенскую тюрьму, и мы пошли проводить его; Том по дороге в возбуждении принялся шептать мне: «Ты представляешь, какое это будет замечательное дело и сколько нам будет грозить опасностей, когда в какую-нибудь темную ночь мы будем выручать его отсюда. Об этом деле растрезвонят повсюду, и мы наверняка прославимся». Однако дядя Сайлас отверг этот план в ту же минуту, когда Том шепнул ему о нем на ухо. Старик заявил, что долг обязывает его подчиниться представителям закона, что бы они с ним ни делали, и что он останется в тюрьме столько, сколько потребуется, даже если там не будет дверей и запоров. Дядины слова сильно разочаровали Тома, однако делать было нечего.
И все-таки Том считал себя виноватым в несчастье дяди Сайласа и твердо решил, что, так или иначе, он должен освободить старика из тюрьмы. Поэтому, прощаясь с тетей Салли, он сказал ей, чтобы она не волновалась, потому что он решил вмешаться в это дело и будет заниматься им день и ночь, пока не сорвет эту игру и не докажет невиновность дяди Сайласа. Тетя Салли совсем растрогалась и принялась благодарить Тома. Она сказала ему, что уверена, что он сделает все возможное. Она поручила нам помогать Бенни вести хозяйство и смотреть за детьми. Мы со слезами попрощались с ней и отправились обратно на ферму, а тетя Салли осталась жить у жены тюремщика до октября, когда должен был состояться суд.
Глава Том Сойер разоблачает убийц
Этот месяц был очень тяжелым для всех нас. Бедняжка Бенни старалась быть как можно бодрее, да и мы с Томом прилагали все усилия, чтобы поддерживать настроение в доме, но все это, как говорится, было впустую. Такая же история происходила и в тюрьме. Мы ходили туда каждый день навещать стариков. Но настроение у них все равно было ужасное. Дядя Сайлас почти не спал по ночам и часто бродил во сне; выглядел он совершенно изнуренным и измученным, разум его как будто помутился, и мы все ужасно боялись, что эти треволнения доконают его и сведут в могилу. А когда мы старались приободрить его, дядя Сайлас только качал головой и говорил, что, если бы мы несли у себя в сердце груз убийства, мы бы так не разговаривали. Том, да и все мы убеждали дядю Сайласа, что это было не умышленное убийство, а случайное, но для него разницы не было. Когда приблизилось время суда, он уже прямо заявлял, что он пытался убить Юпитера. Сами понимаете, это уже была катастрофа. Дело, таким образом, становилось во много раз хуже, и тетя Салли и Бенни совсем уже потеряли покой. С трудом мы добились от дяди Сайласа обещания, что он не будет говорить об убийстве при посторонних. Мы были и этому уже рады.
Весь месяц Том ломал себе голову над тем, какой придумать план, чтобы спасти дядю Сайласа. Сколько раз по ночам он не давал мне спать, без конца изобретая все новые и новые планы, но так ничего толкового и не мог придумать. Мне казалось, что из затеи Тома ничего не выйдет, – слишком все это выглядело безнадежно, и я совсем пал духом. Но Том не поддавался унынию. Он накрепко вцепился в это дело и продолжал думать, строить планы и ломать себе голову.
Наконец в середине октября состоялся суд. Мы все сидели в зале, который, само собой разумеется, был битком набит. Бедный дядя Сайлас! Он сам выглядел не лучше мертвеца, глаза у него ввалились, он исхудал и был ужасно мрачен. Рядом с ним по одну сторону сидела Бенни, а по другую – тетя Салли, обе под вуалями, обе трепещущие от страха. Том сидел рядом с нашим защитником и уж, конечно, совал свой нос во все. И защитник и судья позволяли ему это. Временами Том, по существу, вообще оттеснял защитника и брал дело в свои руки. И надо сказать, что это было совсем неплохо, потому что защитник был из захолустных адвокатишек и, как говорится, звезд с неба не хватал.
Присяжных привели к присяге, потом встал прокурор и начал свою речь. В ней были страшные обвинения против дяди Сайласа. Старик только громко вздыхал и стонал, а Бенни и тетя Салли горько плакали. Мы просто растерялись, когда услышали, как прокурор говорит об убийстве, настолько это выглядело иначе, чем в рассказе дяди Сайласа. Прокурор заявил, что докажет, что двое свидетелей видели, как дядя Сайлас убивал Юпитера Данлепа, и видели, что он это сделал намеренно, и слышали, как дядя Сайлас сказал, что убьет Юпитера, как раз в ту минуту, когда ударил его палкой, что свидетели видели, как дядя Сайлас спрятал труп в кустах, и видели, что Юпитер был мертв. Прокурор утверждал, что дядя Сайлас потом пришел и перетащил труп Юпитера на табачную плантацию, и еще двое свидетелей видели это. А ночью, продолжал обвинитель, дядя Сайлас вернулся и закопал труп, и опять-таки его при этом видели.
Я про себя подумал, что бедный дядя Сайлас наврал нам, полагая, что его никто не видел, – он не хотел разбивать сердце тети Салли и Бенни. И правильно сделал; если бы я был на его месте, я бы врал так же, как и он, да и всякий сделал бы то же самое, чтобы уберечь их от несчастья и горя, в котором они-то не виноваты.
Защитник наш при этом совсем скис, да и Том был сбит с толку, но потом он взял себя в руки и стал делать вид, что ему все это нипочем, но я-то видел, каково ему. Ну а публика – та совсем расшумелась и разволновалась.
Когда прокурор рассказал суду все, что он собирается доказать, он сел на место и начал вызывать свидетелей.
Поначалу он вызвал кучу людей, чтобы они подтвердили, что между дядей Сайласом и покойным были очень плохие отношения. И все они показали, что много раз слышали, как дядя Сайлас угрожал Юпитеру, что отношения между дядей Сайласом и Юпитером становились все хуже и хуже, все это знали и говорили об этом; сказали, что Юпитер боялся за свою жизнь и двум или трем из них сам говорил, что дядя Сайлас когда-нибудь разъярится и убьет его.
Том и наш защитник задали им несколько вопросов, но это было бесполезно – все свидетели твердо стояли на своем.
Затем обвинитель вызвал Лема Биба, и тот занял свидетельское место. Тут я вспомнил, что в тот вечер мы видели Лема и Джима Лейна, вспомнил, как они разговаривали о том, чтобы попросить у Юпитера собаку, и как потом из-за этого началась история с черникой и фонарем. Тут я вспомнил, как Билл и Джек Уиверс прошли мимо нас, разговаривая о том, что какой-то негр украл мешок кукурузы у дяди Сайласа, и как после них появилось наше привидение, и как мы перепугались… Глухонемой тоже был здесь, в суде, – из уважения ему поставили стул за барьером, чтобы он мог сесть со всеми удобствами, положив ногу на ногу, в то время как все остальные сидели в такой тесноте, что дохнуть было невозможно. Мне припомнился весь тот день, и так грустно стало, когда я подумал, как все было тогда хорошо и какие несчастья обрушились на нас с тех пор.
Лем Биб принес присягу и стал говорить:
– В тот день, это было второго сентября, шел я, и был со мной Джим Лейн. Дело было перед заходом солнца. Услышали мы громкий разговор, вроде ссоры, подошли поближе – нас от разговаривавших отделяли только ореховые кусты, что растут вдоль изгороди, – и слышим голос: «Я тебе уже не раз говорил, что когда-нибудь убью тебя». Мы узнали голос подсудимого и тут же увидели, как над кустами мелькнула дубинка и опустилась, мы услышали глухой стук и стон. Мы потихоньку подошли ближе, чтобы посмотреть, и увидели мертвого Юпитера Данлепа, над которым стоял подсудимый с дубинкой в руке.
Тут он потащил тело в кусты и спрятал там. А мы пригнулись пониже, чтобы он нас не заметил, и ушли.
Сами понимаете, каково было слушать это. У всех прямо-таки кровь в жилах застыла от этого рассказа, в зале стояла такая тишина, словно там ни души не было.
А когда Лем закончил, все стали вздыхать и охать и переглядываться, словно желая сказать: «Подумайте, какой ужас! Страсть-то какая!»
Тут меня поразила одна вещь. Все время, пока первые свидетели рассказывали суду о ссорах, угрозах и тому подобном, Том внимательно слушал их; как только они заканчивали, он тут же набрасывался на них и изо всех сил старался поймать их на лжи и опровергнуть их показания. А тут все пошло наоборот! Когда Лем начал говорить и ни словом не упомянул о том, что они разговаривали с Юпитером и собирались взять у него собаку, видно было, что Том так и рвется замучить Лема перекрестным допросом, и я уж был уверен, что мы с Томом вот-вот займем свидетельское место и расскажем, о чем они с.
Джимом Лейном разговаривали на самом деле. Но когда я опять посмотрел на Тома, меня прошиб холодный пот. Он был погружен в глубочайшее раздумье – похоже было, что он сейчас за много-много миль отсюда. Он не слышал ни слова из того, что говорил Лем Биб, и когда тот кончил, Том все еще был погружен в свои мысли. Наш защитник подтолкнул его локтем. Том вроде как бы очнулся и говорит ему:
– Займитесь этим свидетелем, если вам нужно, а меня оставьте в покое, я должен подумать.
Меня это совсем огорошило, я ничего не мог понять.
А у Бенни и тети Салли был совсем убитый вид, так они разволновались. Они обе приподняли свои вуали и старались поймать взгляд Тома, но это было бесполезно, я тоже не мог поймать его взгляда. Наш растяпа защитник пытался сбить Лема своими вопросами, но из этого ничего не вышло, и он только напортил.
Затем судья вызвал Джима Лейна, и тот слово в слово повторил все, что перед ним говорил Лем. Том его уже совсем не слушал, он сидел глубоко задумавшись, и мысли его витали где-то далеко. Растяпа защитник опять в одиночку принялся допрашивать Лейна и опять попал впросак. Обвинитель сидел чрезвычайно довольный, но судья был огорчен. Дело в том, что Том обладал правами настоящего защитника, потому что законы штата Арканзас разрешают обвиняемому выбирать кого угодно для помощи защитнику, и Том уговорил дядю Сайласа избрать его, а теперь, когда Том молчал, судье это не нравилось.
Нашему растяпе защитнику удалось только одно выжать из Лема и Джима, он спросил их:
– Почему вы не рассказали обо всем, что вы видели?
– Мы боялись, что сами окажемся замешанными в это дело. Кроме того, мы как раз уезжали на охоту вниз по реке на целую неделю. Но как только мы вернулись и услышали, что разыскивают тело Юпитера, мы пошли к Брейсу Данлепу и рассказали ему все.
– Когда это было?
– В субботу вечером, девятого сентября. Тут судья прервал их:
– Шериф, арестуйте обоих свидетелей по подозрению в укрывательстве убийцы.
Обвинитель в возмущении вскочил и начал возражать:
– Ваша честь, я протестую против столь неоправданного…
– Сядьте, – заявил судья, положив свой длинный охотничий нож на кафедру, – и прошу вас уважать суд!
На том дело и кончилось. Затем вызвали Билла Уиверса.
Билл принес присягу и заявил:
– В субботу, второго сентября, перед заходом солнца, я шел с моим братом Джеком мимо поля, принадлежащего подсудимому; мы увидели человека, который тащил что-то тяжелое на спине, и решили, что это негр, укравший кукурузу. Но потом мы разглядели, и нам показалось, что это один человек несет другого и, судя по тому, как тот висел на нем, мы решили, что это, наверное, пьяный. Мы узнали по походке проповедника Сайласа и подумали, что он нашел на дороге пьяного Сэма Купера: проповедник ведь все старается вернуть Сэма на путь истинный, – вот он, не иначе, решил оттащить его от греха подальше.
Я видел, как сидящих в зале, что называется дрожь пробрала: они представляли себе, как дядя Сайлас тащил убитого на свою табачную плантацию, где потом собака разыскала труп. На лицах у всех было написано негодование, и я слышал, как какой-то парень сказал: «Вот уж самая что ни на есть хладнокровная работа – тащить вот так человека, которого только что убил, и зарыть его, как скотину. А еще проповедник!»
Том все сидел задумавшись и ни на что не обращал внимания. Пришлось адвокату самому допрашивать свидетеля, он старался, как мог, но толку от этого было мало.
Вслед за Биллом Уиверсом вызвали его брата Джека, который повторил всю историю слово в слово.
Следующим занял свидетельское место Брейс Данлеп.
У него был совершенно убитый вид, он почти плакал.
Кругом все зашептались, зашевелились, многие женщины уж вытирали слезы и жалостливо вздыхали: «Несчастный, бедненький!» В зале все затихли и приготовились слушать.
Брейс Данлеп принес присягу и начал свою речь:
– Я уже давно серьезно волновался за своего брата, но я, конечно, не предполагал, что дело зашло так далеко, как он мне говорил. Я никак не мог представить себе, что найдется человек, у которого поднимется рука ударить такое беззащитное создание, как мой брат. «Тут мне показалось, что Том встрепенулся, но тут же опять задумался.)
– Вы сами понимаете, – продолжал Брейс, – мне и в голову не могло прийти, что проповедник может причинить ему вред, – это было дико даже представить себе. И я не обращал внимания, а теперь я никогда в жизни не прощу себе: если бы я иначе отнесся, то мой бедный брат был бы сейчас со мной, а не лежал мертвым.
Тут у Брейса как будто не хватило сил продолжать, он переждал несколько минут, а все вокруг ахали и охали, женщины плакали; потом наступила мертвая тишина, и все услышали стон, вырвавшийся у бедного дяди Сайласа.
– В субботу, второго сентября – продолжал Брейс, – Юпитер не лришел домой к ужину. Через некоторое время я начал волноваться и послал одного из моих негров к подсудимому – узнать, в чем дело, но негр вернулся и сказал, что брата там нет. Я обеспокоился еще больше. Я лег спать, но никак не мог уснуть и уже поздно ночью встал, пошел к дому проповедника и долго бродил там, надеясь, что встречу своего бедного брата. Я не подозревал тогда, что его уже нет в живых… – Брейс опять умолк, теперь уже женщины плакали все как одна. – Я его, конечно, не встретил, вернулся домой и пытался уснуть, но не мог. Прошел день-другой, и соседи тоже начали беспокоиться и вспоминать угрозы, которыми осыпал брата подсудимый. Возникло подозрение, что мой брат убит, но я этому не поверил. Начались поиски, но тела его не нашли. Я тогда решил, что брат, вероятно, уехал куда-нибудь, чтобы отдохнуть от всех этих передряг, и вернется, когда забудет о своих обидах. Но девятого сентября ночью ко; мне пришли Лем Биб и Джим Лейн и рассказали мне все… рассказали об ужаеном убийстве. Сердце мое было разбито. И тогда я вспомнил один случай, на который в свое время я не обратил внимания.
Я слышал, что подсудимый имеет привычку разгуливать во сне и сам не знает в этот момент, что он делает. Я расскажу вам, что я вспомнил. Поздно ночью в ту ужасную субботу, когда я в отчаянии бродил вокруг дома подсудимого, я остановился у табачной плантации и услышал, как кто-то копает – окаменевшую землю. Я подошел поближе, раздвинул кустарник, что растет у него вдоль изгороди, и увидел подсудимого, у которого в руках была лопата с длинной ручкой, и он кончал засыпать землей большую яму. Подсудимый стоял ко мне спиной, но ночь была лунная, и я узнал его по старой куртке: у нее на спине белая заплата, словно попали снежком. Он закапывал человека, которого он убил…
С этими словами Брейс упал на стул и зарыдал; в зале слышались только причитания, плач и возгласы: «Это ужасно!.. Это невероятно!» Все были в страшном волнении, и шум стоял такой, что можно, было оглохнуть. И вдруг дядя Сайлас вскочил белый, как бумага, и выкрикнул:
– Все это правда! До последнего слова! Я убил его, и убил намеренно! Клянусь вам, это ошеломило зал. Все вскочили с мест, стараясь получше рассмотреть его, судья изо всех сил стучал молотком по столу, шериф орал: «Тише! Прекратите беспорядок в суде!»
И среди всего этого шума и гама стоял наш старик, весь трясясь, с горящими глазами; он старался не смотреть на жену и дочь, которые цеплялись за него и умоляли успокоиться, он отталкивал их и кричал, что он хочет очистить свою душу от преступления, хочет снять с себя это невыносимое бремя, что он ни часу не может более терпеть! И тут дядя Сайлас начал свой страшный рассказ, и все в зале – судья, присяжные, обвинитель и защитник, публика – слушали его затаив дыхание, а Бенни и тетя Салли рыдали так, что казалось, сердце разорвется.
И вы подумайте – Том ни разу даже не глянул на дядю Сайласа! Ни разу! Вот так и сидел, уставившись на что-то, – не могу сказать, на что именно.
А дядя Сайлас, захлебываясь от волнения, говорил и говорил:
– Я убил его! Я виновен! Но я не хотел причинить ему вреда, – сколько бы здесь ни лгали, что я угрожал ему, – до той самой минуты, когда я замахнулся на него палкой, – тут мое сердце окаменело, жалость покинула мою душу, и я ударил его с желанием убить. В эту минуту во мне поднялось все зло, которое мне причинили, я вспомнил все оскорбления, которые нанес мне этот человек и его негодяй брат, как они сговорились оклеветать меня и опорочить мое доброе имя, как они толкали меня на поступки, которые должны были погубить меня и мою семью, а ведь мы никогда не сделали им ничего худого.
Они хотели отомстить мне. За что? За то, что моя ни в чем не повинная бедная дочь, сидящая сейчас рядом со мной, отказалась выйти замуж за этого богатого, наглого и невежественного труса Брейса Данлепа, который проливал здесь лживые слезы по поводу своего брата, хотя на самом деле он никогда не любил его. (Тут я заметил, что Том встрепенулся и как будто обрадовался чему-то.) В тот миг я забыл о боге и помнил только о своих бедах, да простит мне бог! И я ударил его! Я тут же пожалел об этом, меня охватило раскаяние, но я подумал о моей бедной семье и решил, что ради их спасения я должен скрыть содеянное мною, и я спрятал труп в кустах, потом перетащил его на табачную плантацию, а глубокой ночью отправился туда с лопатой и закопал его там…
В этот момент вскочил Том и закричал:
– Теперь я знаю! Он очень величественно махнул рукой в сторону дяди Сайласа и сказал ему:
– Сядьте! Убийство было совершено, но вы не имеете к нему никакого отношения!
Ну, должен вам сказать, тут все замерли, и можно было услышать, как муха пролетит. Дядя Сайлас в полном замешательстве опустился на скамью, но тетя Салли и Бенни даже не заметили этого, до того они были потрясены, – они уставились на Тома, рты у них так и остались разинутыми, они просто ничего не могли сообразить. Да и все в зале сидели совершенно ошеломленные.
В жизни своей не видел, чтобы люди выглядели такими беспомощными и растерянными. А Том, совершенно спокойный, обратился к судье:
– Ваша честь, вы разрешите мне сказать?
– Ради бога, говори! – только и мог сказать растерявшийся и смущенный судья.
А Том постоял секунду-другую – для эффекта, как он это называл, – и спокойненько так начал говорить:
– Вот уже две недели на здании суда висит маленькое объявление, в котором предлагается награда в две тысячи долларов тому, кто найдет два большие брильянта, украденные в Сент-Луисе. Эти брильянты стоят двенадцать тысяч долларов. Но к этому мы еще вернемся. А сейчас я расскажу вам об убийстве – как оно произошло и кто совершил его, во всех подробностях.
Все так и подались вперед, стараясь не пропустить ни слова.
– Этот вот человек, Брейс Данлеп, который так горевал здесь о своем убитом брате, хотя вы все знаете, что он его ни в грош не ставил, хотел жениться на этой девушке, а она ему отказала. Тогда Брейс сказал дяде Сайласу, что он заставит его пожалеть об этом. Дядя Сайлас знал, какая сила у Брейса Данлепа и понимал, что он не может бороться с ним. Вот он и боялся, и волновался, и старался сделать все что мог, чтобы смягчить и задобрить Брейса Данлепа. Дядя Сайлас даже взял к себе на ферму это ничтожество, его брата Юпитера, и стал платить ему жалованье, лишая ради этого свою семью всего необходимого. А Юпитер стал делать все, что подсказывал ему его брат, чтобы оскорблять дядю Сайласа, терзать и волновать его. Он старался довести дядю Сайласа до того, чтобы тот обидел его, чтобы соседи стали думать о дяде Сайласе плохо. Так оно и получилось. Все отвернулись от дяди Сайласа и начали говорить о нем самые скверные вещи, и это так его расстраивало и мучило, что он бывал просто не в себе.
Так вот, в ту самую субботу, о которой здесь так много говорили, двое свидетелей, выступавших здесь, Лем Биб и Джим Лейн, проходили мимо того места, где работали дядя Сайлас и Юпитер Данлеп. Вот это единственная правда из того, что они здесь говорили, все остальное – ложь. Они не слышали, как дядя Сайлас сказал, что убьет Юпитера, они не слышали звука удара, они не видели убитого, и они не видели, как дядя Сайлас прятал что-то в кустах. Посмотрите на них – видите, как они жалеют теперь, что дали волю своим языкам. Во всяком случае, они пожалеют об этом прежде, чем я кончу говорить.
В тот субботний вечер Билл и Джек Уиверсы действительно видели, как какой-то человек тащил на себе другого. Тут они сказали правду, а все остальное – вранье.
Во-первых, они решили, что это какой-то негр утащил кукурузу с поля дяди Сайллса. Они и не подозревали, что кто-то слышал их разговор. Обратите внимание, какой у них сейчас глупый вид. Дело в том, что они потом узнали, кто это был, а почему они присягали здесь, что по походке узнали дядю Сайласа, известно им самим, – ведь они, когда клялись здесь, знали, что это был не он.
Один человек действительно видел, как убитого закапывали на табачном поле, – но закапывал его совсем не дядя Сайлас. Дядя Сайлас в это время спокойно спал в своей постели.
А теперь, прежде чем продолжать, я хочу спросить вас, не обращали ли вы внимания на то, что, когда человек глубоко задумается или взволнован, он, сам того не замечая, делает какой-нибудь определенный жест. Некоторые поглаживают подбородок, некоторые почесывают нос, другие потирают шею, третьи крутят цепочку, четвертые пуговицу. Есть и такие которые рисуют пальцем на нижней губе, на щеке или под подбородком какую-нибудь цифру или букву. Так бывает со мной, например. Когда я волнуюсь или сильно задумаюсь, я рисую на щеке или на губе букву «В» и почти никогда не замечаю, что я делаю.
Это Том здорово подметил. Я сам делаю то же самое, только я рисую букву «О». И я увидел, что многие кивают головами, соглашаясь с Томом.
– Теперь я буду рассказывать дальше. В ту субботу, – хотя нет, это было накануне ночью, – к пристани Флаглера, в сорока милях отсюда, причалил пароход. Был сильный дождь и гроза. На этом пароходе находится вор, и у него были те два брильянта, о которых сказано в объявлении на дверях суда. Этот вор тайком высадился на берег со своим саквояжем и исчез в темноте, надеясь благополучно добраться до нашего городка. Но на том же пароходе прятались еще два его бывших сообщника, которые, он знал, собираются при первой же возможности убить его и забрать брильянты. Дело в том, что украли эти брильянты они втроем, а он один захватил драгоценности и скрылся с ними.
Не прошло и десяти минут после того, как этот человек сошел на берег, а эти ребята узнали об этом и бросились вслед за ним. Наверное, при свете спичек они обнаружили его следы. Во всяком случае, они незаметно шли по его следам всю субботу. Перед заходом солнца он добрался до платановой рощи около поля дяди Сайласа и укрылся там, чтобы переодеться, прежде чем войти в город. Это случилось как раз после того, как дядя Сайлас ударил Юпитера Данлепа дубинкой по голове, – а он его действительно ударил.
Но в ту минуту, когда преследователи увидели, что вор скрылся в платановой роще, они выскочили из кустов и бросились туда вслед за ним. Они напали на него и принялись избивать. Он кричал и стонал, но они безжалостно убили его. Двое людей, которые шли в это время по дороге, услышали его крики и бросились в платановую рощу, – а они туда и так направлялись, – и когда убийцы увидели их, пустились наутек, а двое пришедших бросились за ними. Но гнались они совсем недолго – минуту или две, а потом потихоньку вернулись обратно в платановую рощу.
Что же они потом стали делать? Я вам расскажу. Они обнаружили одежду, которую убитый вор успел вытащить из своего саквояжа, и один из них надел ее на себя.
Том выждал минуту – опять-таки для пущего эффекта – и именно продолжал:
– Человек, который надел на себя одежду убитого был… Юпитер Данлеп!
– Господи! – воскликнули в зале, а дядя Сайлас сидел совершенно ошеломленный.
– Да, да, это был Юпитер Данлеп. И, как вы понимаете, ничуть не мертвый. Затем эти двое сняли с убитого сапоги и надели на него старые рваные башмаки Юпитера, а сапоги убитого надел на себя Юпитер Данлеп. Затем Юпитер Данлеп остался в роще, а второй человек спрятал труп и после полуночи отправился к дому дяди Сайласа, взял там старую зеленую рабочую куртку, которая висела на веревке в проходе между домом и кухней, лопату с длинной ручкой, пробрался на табачную плантацию и зарыл там труп.
Том остановился и помолчал с полминуты.
– Кто бы вы думали, был этот убитый? Это был… Джек Данлеп, давным-давно пропавший без вести грабитель!
– Господи!
– А человек, который закопал его, был… Брейс Данлеп, его родной брат!
– Господи!
– А кто бы вы думали, этот гримасничающий идиот, который вот уже несколько недель притворяется глухонемым? Это Юпитер Данлеп!
Что тут началось! Поднялся такой шум, что вы за всю свою жизнь не увидели бы такой суматохи. А Том подскочил к Юпитеру и сорвал с него очки и фальшивые бакенбарды. Перед нами оказался убитый Юпитер, живой и целехонький. Тетя Салли и Бенни с плачем бросились обнимать и целовать дядю Сайласа, и до того затискали бедного старика, что он совсем потерял голову. А публика принялась кричать:
– Том Сойер! Том Сойер! Замолчите все, пусть он рассказывает дальше! Рассказывай дальше, Том Соейр!
Том был на верху блаженства, потому что его хлебом не корми, только дай ему быть в центре внимания, стать героем, как он говорит. Когда все утихло, он опять заговорил:
– Мне осталось сказать немного: когда Брейс Данлеп измучил дядю Сайласа до того, что бедный старик совсем лишился ума и в конце концов стукнул его пустоголового братца по голове дубинкой, Брейс, вероятно, решил, что это подходящий случай. Юпитер побежал в лес, чтобы спрятаться там, и я думаю, что план у них был такой, – чтобы Юпитер той же ночью скрылся из этих мест. Тогда Брейс убедил бы всех, что дядя Сайлас убил Юпитера и где-то закопал его труп. Таким образом, Брейс рассчитывал доконать дядю Сайласа и добиться того, чтобы он уехал из этих мест, а может быть, и того, чтобы его повесили, этого я не знаю. Но когда они в платановой роще нашли своего убитого брата, – хотя они не узнали его, так он был изуродован, – они придумали другую штуку: переодеть Юпитера в одежду Джека, а того закопать в одежде Юпитера и подкупить Джима Лейна, Билла Уиверса и остальных дать ложные показания. Вот посмотрите на них всех, какой у них вид, – я ведь предупреждал их, что они пожалеют прежде, чем я кончу говорить, так оно и вышло…
Так вот, мы с Геком Финном плыли на одном пароходе с ворами, и покойник рассказал нам все про брильянты; кроме того, он сказал нам, что те двое убьют его, если только поймают. Мы обещали помочь ему, насколько это будет в наших силах. Мы как раз были около платановой рощи и слышали, как его там убивали, но попали мы в рощу только рано утром, после того как прошел ливень, и в конце концов решили, что там никого не убили. А когда мы увидели здесь Юпитера Данлепа, переодетого точно так, как собираются переодеться Джек, мы были уверены, что это Джек, к тому же он мычал, изображая из себя глухонемого, как и было условлено.
После того как все бросили разыскивать тело, мы с Геком продолжали поиски – и нашли труп. Конечно, мы ужасно гордились этим, но когда дядя Сайлас сказал нам, что это он убил Юпитера, мы просто оцепенели. Мы страшно жалели, что нашли труп, и решили спасти дядю Сайласа от виселицы, если только сможем. Это было нелегко, потому что дядя Сайлас не разрешил нам выкрасть его из тюрьмы, как мы украли, если вы помните, нашего негра Джима.
Весь этот месяц я ломал голову, чтобы придумать какой-нибудь способ спасти дядю Сайласа, но ничего не мог сообразить. Так что сегодня, когда мы пришли в зал суда, у меня никакого плана не было, и я не видел выхода. Но потом я заметил кое-что, и это кое-что заставило меня задуматься. Это был пустяк, и я не мог быть уверен, но я стал припоминать и следить. Все время, пока я делал вид, что сижу в раздумье, я наблюдал. И вскоре, как раз когда дядя Сайлас выпаливал свои признания, что это он убил Юпитера Данлепа, я снова увидел то, что ожидал.
Тут я вскочил и прервал заседание, – я понял, что передо мной сидит Юпитер Данлеп. Я узнал его по одному движению, которое я заметил раньше и запомнил. Год назад, когда я был здесь, я это заметил.
На этом месте Том замолчит и с минуту раздумывал – опять-таки для эффекта, – я-то отлично знал его фокусы. Потом он повернулся, словно собираясь вернуться на свое место, и протянул этак лениво и небрежно:
– Ну вот, кажется, и все.
Такого шума я еще не слыхивал, весь зал кричал:
– Что ты увидел? Не смей уходить, чертенок ты эдакий! Ты что же, расписывал все это, пока у нас слюнки не потекли, а теперь хочешь уйти? Ты говори, что он делал?!
Ну, вы сами понимаете, что Тому только этого и надо было, – он все это проделал для эффекта, на самом-то деле его с этой трибуны целой упряжкой волов нельзя было бы стащить.
– Да это пустяк, мелочь, – сказал он, – я заметил, что он немного взволновался, когда увидел, что дядя Сайлас сам лезет в петлю из-за убийства, которого он не совершал. Он волновался все больше и больше, а я наблюдал за ним, не показывая вида, – и вдруг его пальцы беспокойно задвигались, и вскоре он поднял левую руку и стал рисовать пальцем крест на щеке. Тут-то я и поймал его.
Все словно с ума сошли, начали кричать, стучать ногами и хлопать в ладоши, – а Том Сойер был так горд и счастлив, что уже не знал, как и вести себя. Тогда судья нагнулся со своей кафедры и спросил:
– Скажи мне, ты действительно видел все подробности этого странного заговора и всей этой трагедии, которые ты здесь рассказал?
– Нет, ваша честь, я ничего этого не видел.
– Ты ничего не видел? Но ведь ты рассказал нам эту историю так, словно ты видел все собственными глазами.
Как ты сумел это сделать?
Том ответил ему спокойно и небрежно:
– Просто я внимательно слушал показания и сопоставлял их, ваша честь. Это обычное дело сыщика, каждый мог бы сделать то же самое.
– Ничего подобного! На это способен один из миллиона. Ты исключительный мальчик.
Тут Тому опять начали хлопать, а он… ну а он не променял бы эту минуту на целый серебряный рудник.
Наконец судья опять спросил его:
– Но ты уверен, что правильно рассказал нам всю эту странную историю?
– Да, ваша честь. Вот Брейс Данлеп, пусть он, если хочет, попробует отрицать свое участие в этом деле. Я ручаюсь, что заставлю его пожалеть, если он на это решится. Вы видите, он молчит. И братец его тоже помалкивает. И все четверо свидетелей, которые так лгали потому, что им заплатили за это, не хотят ничего говорить.
Ну а дядя Сайлас тоже не может ничего возразить, даже говори он под присягой.
Ну, сами понимаете, что эти слова вызвали новый шум и смех в зале, даже судья не выдержал и рассмеялся. Том чувствовал себя на верху блаженства. И тут, среди всеобщего смеха, он повернулся к судье и сказал:
– Ваша честь, здесь, в зале, вор.
– Да, сэр. И на нем находятся те самые брильянты стоимостью в двенадцать тысяч долларов.
Бог ты мой, это было как взрыв бомбы! Все кричали:
– Кто он? Кто он? Укажи на него!
А судья сказал:
– Укажи его, мой мальчик. Шериф, вы арестуете его. Кто это? Том сказал:
– Вот этот воскресший покойник – Юпитер Данлеп. Раздался новый взрыв изумленных и взволнованных криков, но Юпитер, который так был потрясен всем, что произошло до этого, теперь выглядел совершенно ошеломленным. Он закричал, почти плача:
– Ну вот это уже вранье! Ваша честь, это несправедливо, мне и так худо пришлось. Все, что здесь говорили, – правда, меня на это толкнул Брейс, он уговорил меня, обещал сделать меня богатым, вот я и согласился.
А теперь жалею; лучше бы я этого не делал. Но я не крал никаких брильянтов, провалиться мне на этом месте! Пусть шериф обыщет меня.
Том прервал его:
– Ваша честь, назвать его вором не совсем правильно, и я здесь несколько преувеличил. Он действительно украл брильянты, но сам не знал об этом. Он украл их у своего брата Джека, когда тот лежал мертвым, а Джек украл их у двух других воров. Просто Юпитер не знал, что крадет их, и целый месяц он разгуливал с ними. Да, сэр, на нем находятся брильянты ценой в двенадцать тысяч долларов – целое богатство, а он-то жил милостыней целый месяц. Да, ваша честь, они и сейчас находятся на нем.
Судья распорядился:
– Шериф, обыщите его. Ну что вам сказать, шериф обшарил его с головы до ног всего – обыскал его шляпу, носки, швы, сапоги – все, что только можно было, а Том стоял рядом, совершенно спокойный, подготавливая новый эффект. Наконец шериф закончил, все сидели разочарованные, а Юпитер заявил:
– Ну, вы видите? Что я говорил?
Тогда судья сказал:
– Похоже, мой мальчик, что на этот раз ты ошибся.
Том тут принял театральную позу и, почесывая голову, сделал вид, что он мучительно думает. Затем он вроде как бы просиял и сказал:
– Ах, вот в чем дело! А я совсем забыл. Я-то знал, что это вранье. А он говорит:
– Не будет ли кто-нибудь из присутствующих так добр одолжить мне маленькую отвертку? В саквояже вашего брата, который вы стащили, Юпитер, была такая отвертка, но я думаю, что сюда вы ее не принесли.
– Нет, конечно, она была мне ни к чему, и я ее отдал.
– Это потому, что вы не знали, для чего она нужна.
Юпитер к этому моменту опять надел свои сапоги, и когда отвертку, которую просил Том, передали через головы собравшихся, Том приказал Юпитеру:
– Положите ногу на стул.
Потом он стал на колени и начал отвинчивать стальную пластинку с каблука. Все с трепетом следили за его движениями. И когда Том вытащил из каблука огромный брильянт, поднял его и брильянт засверкал в солнечных лучах, переливаясь всеми цветами радуги, все так и ахнули. А Юпитер выглядел таким жалким и убитым, что даже сказать невозможно. Ну а уж когда Том вытащил второй брильянт, Юпитер совсем скис. Он представил себе, как он мог бы удрать за границу и стать там богатым и независимым, если бы только ему пришло в голову, зачем в саквояже лежала отвертка. Волнение в зале было неописуемое, а Том купался в лучах славы. Судья забрал брильянты, встал во весь рост за своей кафедрой, сдвинул очки на лоб, откашлялся и заявил:
– Я оставлю их пока у себя и извещу владельцев, а когда владельцы пришлют за ними, то для меня будет истинным удовольствием вручить тебе награду в две тысячи долларов, ибо ты заслужил эти деньги. А кроме того, ты заслужил самую глубокую и самую искреннюю благодарность всей нашей общины за то, что ты избавил невинную и оклеветанную семью от позора и гибели, а доброго и честного человека спас от позорной смерти. Мы также благодарны тебе за то, что ты разоблачил и передают в руки правосудия жестокого и гнусного негодяя и его подлых сообщников.
Ну что вам сказать, для полного счастья не хватайте только духового оркестра. Том впоследствии сказал, что он чувствовал то же самое.
Шериф тут же забрал Брейса Данлепа и всю его компанию, а через какой-нибудь месяц судья приговорил их всех к тюремному заключению.
С этого дня, как и в былые времена, все жители округи опять стали собираться в маленькой старой церкви дяди Сайласа, все старались быть как можно добрее и любезнее к нему и ко всей его семье. А дядя Сайлас произносил такие несусветные, такие путаные и идиотские проповеди, что после них люди с трудом находили дорогу домой среди бела дня. Но все делали вид, что это самые лучшие и блестящие проповеди, какие они только слышали в своей жизни, стояли в церкви и плакали от любви и жалости к дяде Сайласу. Мне казалось, что я сойду с ума, что эти проповеди доведут меня просто до белой горячки и мозги у меня совершенно высохнут. Но постепенно, оттого, что все были с ним так добры, к дяде Сайласу вернулся рассудок, и голова у него стала такой же крепкой, как и раньше, а это можно сказать без лести. Вся семья была совершенно счастлива, и не было границ их благодарности и любви к Тому Сойеру; эта любовь и благодарность распространялись и на меня, хотя я тут был ни при чем. А когда прибыли те две тысячи долларов, Том отдал мне половину и никому об этом не сказал. Ну, меня это не удивило.
Глава первая
ТОМ ИГРАЕТ, СРАЖАЕТСЯ, ПРЯЧЕТСЯ
Том!
Нет ответа.
- Том!
Нет ответа.
- Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том! Нет ответа.
Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздернула очки на лоб и глянула из-под них: она редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были ее парадные очки, гордость ее сердца: она носила их только “для важности”; на самом же деле они были ей совсем не нужны; с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала не очень сердито, но все же довольно громко, чтобы мебель могла ее слышать:
- Ну, попадись только! Я тебя…
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у нее не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла ничего, кроме кошки.
- В жизни своей не видела такого мальчишки!
Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород - заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно дальше, и крикнула:
- То-о-ом!
Позади послышался легкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улизнуть.
- Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал?
- Ничего.
- Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?
- Не знаю, тетя!
- А я знаю. Это - варенье, вот что это такое. Сорок раз я говорила тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот прут.
Розга взметнулась в воздухе - опасность была неминуемая.
- Ай! Тетя! Что это у вас за спиной!
Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый забор - и был таков!
Тетя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.
- Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он выкидывал со мной всяких штук? Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь. Впрочем, господи боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то другая - разве тут догадаешься, что у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что стоит ему на минуту сбить меня с толку или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются, и я не в
силах отхлестать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да простит меня бог. “Кто обходится без розги, тот губит ребенка”, говорит священное писание1. Я же, грешная, балую его, и за это достанется нам на том свете - и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесенок, но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и оказать не умею, а выпорю - мое старое сердце прямо разрывается на части. Верно, верно оказано в писании: век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошел в школу: будет лодырничать до самого вечера, и мой долг наказать его, и я выполню мой долг - заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра у всех мальчиков праздник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит трудиться. Опустить ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша.
Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провел время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот исполнял три четверти всей работы. Младший брат Тома, Сид (не родной брат, а сводный), к этому времени уже сделал все, что ему было приказано (собрал и отнес все щепки), потому что это был послушный тихоня: не проказничал и не доставлял неприятностей старшим.
Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок сахару, тетя Полли задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадет в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах чудеса ехидного коварства.
- Том, - сказала она, - в школе сегодня небось было жарко?
- Да, ’м2.
- Очень жарко, не правда ли?
- Да, ’м.
- И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке?
Тому почудилось что-то недоброе - тень подозрения и страха коснулась его души. Он пытливо посмотрел в лицо тети Полли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил:
- Нет, ’м… не особенно.
Тетя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку.
- Даже не вспотел, - сказала она.
И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома сухая; никому и в голову не пришло, какая хитрость была у нее на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:
- Мы подставляли голову под насос - освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые. Видите?
Тете Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную косвенную улику! Но тотчас же новая мысль осенила ее.
- Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не пришлось распарывать воротник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку!
Тревога сбежала у Тома с лица. Он распахнул куртку. Воротник рубашки был крепко зашит.
- Ну хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймешь. Я была уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя: ты хоть и порядочный плут, но все же оказался лучше, чем можно подумать.
Ей было немного досадно, что ее хитрость не привела ни к чему, и в то же время приятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком.
Но тут вмешался Сид.
- Что-то мне помнится, - сказал он, - будто вы зашивали ему воротник белой ниткой, а здесь, поглядите, черная!
- Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..
Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо оказал:
- Ну и вздую же я тебя, Сидди!
Укрывшись в надежном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую - черная.
- Она и не заметила бы, если б не Сид. Черт возьми! То она зашивала белой ниткой, то черной. Уж шила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьешься… А Сида я все-таки вздую - будет ему хороший урок!
Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.
Впрочем, через две минуты - и даже скорее - он позабыл все невзгоды. Не потому, что они были для него менее тяжки и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но потому, что в эту минуту им
овладела новая могучая страсть и вытеснила у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди
1 Священным писанием христиане считают библию - книгу, где собрано много легенд о боге и всевозможных “святых”, а также евангелие
- книгу о “сыне божьем” Иисусе Христе. Во многих странах евангелие входит в состав библии.
2 “’м” - первая и последняя буква слова “мэдм”, которое употребляется в Англии и в Америке при почтительном обращении к женщине.
способны забывать свои горести, едва только их увлечет какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлекся одной драгоценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по-птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно было часто-часто дотрагиваться языком до неба. Читатель, вероятно, помнит, как это делается, - если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астроном, открывший в небе новую планету, только радость его была непосредственнее, полнее и глубже.
Летом вечера долгие. Было еще светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга1. К тому же на мальчике был нарядный костюм - нарядный костюм в будний день! Это было прямо поразительно. Очень изящная шляпа; аккуратно застегнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром, что сегодня еще только пятница. У него был даже галстук - очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щеголя, и это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтерханнее казался ему его собственный жалкий костюм и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие франтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному сделать шаг, делал шаг и другой, - но только в сторону, вбок, по кругу. Лицо к лицу и глаза в глаза - так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал:
- Хочешь, я тебя вздую!
- Попробуй!
- А вот и вздую!
- А вот и не вздуешь!
- Захочу и вздую!
- Нет, не вздуешь!
- Нет, вздую!
- Нет, не вздуешь!
- Вздую!
- Не вздуешь!
Тягостное молчание. Наконец Том говорит:
- Как тебя зовут?
- А тебе какое дело?
- Вот я покажу тебе, какое мне дело!
- Ну, покажи. Отчего не показываешь?
- Скажи еще два слава - и покажу.
- Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!
- Ишь какой ловкий! Да если бы я захотел, я одною рукою мог бы задать тебе перцу, а другую пусть привяжут - мне за опишу.
- Почему ж не задашь? Ведь ты говоришь, что можешь.
- И задам, если будешь ко мне приставать!
- Ай-яй-яй! Видали мы таких!
- Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица! Ой, какая шляпа!
- Не нравится? Сбей-ка ее у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи.
- Врешь!
- Сам ты врешь!
- Только стращает, а сам трус!
- Ладно, проваливай!
- Эй ты, слушай: если ты не уймешься, я расшибу тебе голову!
- Как же, расшибешь! Ой-ой-ой!
- И расшибу!
- Чего же ты ждешь? Пугаешь, пугаешь, а на деле нет ничего? Боишься, значит?
- И не думаю.
- Нет, боишься!
- Нет, не боюсь!
- Нет, боишься!
Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит:
- Убирайся отсюда!
- Сам убирайся!
- Не желаю.
- И я не желаю.
1 Американцы часто дают своим маленьким городам громкие названия столиц. У них есть несколько Парижей, три или четыре Иерусалима, Константинополь и т.д. Город, изображаемый в этой книге, они назвали именем тогдашней русской столицы.
Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперед под одним и тем же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не дается ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгоряченные, красные, они понемногу ослабляют свой натиск, хотя каждый по- прежнему остается настороже… И тогда Том говорит:
- Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату - он одним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу - он отколотит!
- Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, еще старше, и он может швырнуть твоего вон через тот забор. (Оба брата - чистейшая выдумка).
- Врешь!
- Мало ли что ты скажешь!
Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:
- Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую взбучку, что ты с места не встанешь! Горе тому, кто перейдет за эту черту!
Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:
- Ну посмотрим, как ты вздуешь меня.
- Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
- Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не колотишь?
- Черт меня возьми, если не поколочу за два цента!
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает Тому.
Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дергают друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопределенная масса принимает отчетливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками.
- Проси пощады! - требует он.
Но мальчик старается высвободиться и громко ревет - больше от злости.
- Проси пощады! - И молотьба продолжается.
Наконец чужой мальчик невнятно бормочет: “Довольно!” - и Том, отпуская его, говорит:
- Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Чужой мальчик побрел прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом “в следующий раз, когда поймает его”. Том отвечал насмешками и направился к дому, гордый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живет. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться прочь.
Том ушел, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст ее сыночку как следует.
Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду: перед ним стояла тетка; и, когда она увидела, что сталось с его курткой и штанами, ее решимость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.
Добавить сказку в Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Мой Мир, Твиттер или в Закладки