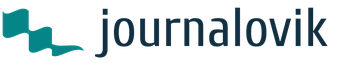Матеру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой
лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего
остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое
разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю
сторожевую службу. Но говорить "она" об этом дереве никто, пускай пять раз
грамотный, не решался; нет, это был он, "царский листвень" - так вечно,
могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти
отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что
решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его - тогда и
грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией "царскому лиственю"
верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвепь присел и потратился, но
нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще
грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз
им, "царским лиственем", и крепится остров к речному дну, одной общей земле,
и покуда стоять будет он, будет стоять и Матера. Не в столь еще давние
времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его
угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же,
конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться.
Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к
наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это,
верно, имели свои причины.
Толстые огромные ветви отходили у "царского лиственя" от ствола не
вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны - будто росли вбок
самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в
четырех от земли и издавна звалась "Пашиным суком": когда-то на нем
повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша.
Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее
сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух
своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в
Матере никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых,
торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради
ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни:
сбросили с яра в Ангару.
И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под "царским
лиственем" после войны: все с того же "Пашиного сука" оборвался и
захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы
куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.
Вот сколько всяких историй связано было с "царским лиственем".
За век свой он наровнял так много хвои и шишек, что земля вокруг
поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился
могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились
ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты
серы, которой потом одаривали девок,- и кора со временем сползла, листвень
оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые
и тонкиe, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но
то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней,
приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое
основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого
намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы
со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое
корявое углубление - и только, все остальное казалось цельным и литым.
А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще
зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась
когда-то подняться рядом с грозным "царским лиственем". И он помиловал ее,
не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но
здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из
великой и капризной своей милости.
И вот настал день, когда к нему, к "царскому лиственю", подступили
чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров
спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую
они исполняли на Матере добрых две недели. И как ни исправно, как ни
старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли.
Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее
можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла
продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с
прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились
к дереву.
Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о
ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову,- с такой силой он
спружинил обратно.
- Ого! - изумился мужик.- Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды
два - четыре. Не таких видывали.
Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню,
зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с
резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин,
сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как
терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не
годились: на том и другом темнели дырки.
Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого
углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь,
нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот,
что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление
соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя
на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой,
осмотрел на свет острие топора и покачал головой.
- Как железное,- признал он и опять ввернул непонятную арифметическую
угрозу:- Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять - двадцать пять.
Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать
ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой
нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол
бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя
канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул
ствол.
- Вот так,- удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли
топор.- Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.
И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что,
покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он
так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко
рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.
Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась
работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.
- Гляди-ка ты! - удивился тот же мужик.- Стоит! Ну постой, постой...-
Это был веселый мужик, он баском пропел:- "Ты постой, постой, красавица моя,
дай мне наглядеться вдоволь на тебя".
Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики,
это были они, вернулись к лиственю всей командой - пять человек. Снова
ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли
эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от
резины.
- Ну зверь! - с восхищением щурился на листвень веселый мужик.- На
нашего хозяина похожий.- Он имел в виду Богодула.- Такой же ненормальный.
Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас
шестью шесть - тридцать шесть.
- Плюнуть на него,- неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй
вчерашний знакомец лиственя - в болотных сапогах.- К чему нам дочиста все
соскребать!
Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не
походить на мальчишку, задрал вверх голову:
- Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.
- Пилу надо.
- Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по
металлу надо.
- Я говорю про бензопилу.
- Не пойдет. Ишь че: ширше...- следовало непечатное слово.- Для него
твоя бензопила - что чикотка.
Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую
горелую стружку и понюхал ее.
- Что зря базарить?! - с усмешкой сказал он.- Нашли закавыку! Гольное
смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.
- Разводили же вчера.
- Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.
- Давай попробуем еще. Должна загореться.
Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные
принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать
листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи.
Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К
тому времени был доставлен бензин - не жалея, полили им вокруг весь ствол и
снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный,
дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким
дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали
лица верхонками.
- Как дважды два - четыре,- победно крикнул тот, веселый...
Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал,
слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а
листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.
Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие
жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к "царскому лиственю" не
приставал, только мазал его сажей.
Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики
ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не
признавая никакой силы, кроме своей собственной.
- Надо завтра бензопилой все-таки попробовать,- согласился бригадир,
только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.
И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:
- Плюнуть на него - и дело с концом! Пускай торчит - хрен с ним! Кому
он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим
связались...
- Все бы плевали! - разозлился бригадир.- Плевать мы мастера, этому нас
учить не надо. А принимать приедут - куда ты его спрячешь? Фуфайкой
закроешь? Неужели дерево не уроним?
- Было бы это дерево...
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному
подступили к "царскому лиственю" с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир.
Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его
могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и
надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез
оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее - пила
зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка
бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее
толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким
надрезом - не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой
по чурке, стараясь ее перерезать,- результат один. И бригадир оставил пилу.
- Неповалимый,- сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз
смерил его глазами от земли доверху.- Пускай с тобой, с заразой, возится,
кому ты нужна!
Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на
березу:
- Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь...
И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и
норовистым, не поддавшимся людям "царским лиственем", упала, ломая последние
свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое
старческое волокно. "Царский листвень" не шелохнулся в ответ. Чуть
склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край
острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на
лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы.
Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на
полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матере
жалась такая же голая, обезображенная Подмога.
Один выстоявший, непокорный "царский листвень" продолжал властвовать
надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.
Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу
близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его,
вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в
поселок, а потом через "не могу" нажигать этот камень, как в старину. Но на
диво, и сама начинала - не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и
добыла известку.
Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и
легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.
Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза -
после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на Пасху.
Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны
пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле
подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в
предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что
долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.
Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После
кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и
когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и
подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него,
покойника в гроб не кладут - так принято. А как можно отдать на смерть
родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама
она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет,
другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла,
стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.
А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:
- Ну что, бабки,- перед ним они были вcе вмеcте - Дарья, Катерина и
Сима,- нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам -
доканчивать свое дело. Давайте не тяните.
И Дарья заторопилась - не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь
верхний край Матеры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем
оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок,
которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не
вырвать.
Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:
- А я свою не прибрала.
- Ты ж не знала, как будет,- хотела успокоить ее Дарья.
- Не знала,- без облегченья повторила Катерина.
Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами
протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться,
Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав,
приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась - сначала на
четвереньки,- хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала
кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную
табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными,
размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается,
Сима просила:
- Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.
- Сиди! - в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее
немощь.
Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать
никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как
при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить
ее не учить, за жизнь свою набелилась - и известка ложилась ровно, отливая
от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь
и сравнивая, Дарья замечала: "Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох,
чует, чует, не иначе". И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и
верилось, что так и должно белиться.
Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже пожогщик -
они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко
разинул глаза:
- Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать
будем, а она белит. Ты что?!
- Завтри и поджигай, поджигатель,- остановила его сверху Дарья суровым
судным голосом.- Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут
власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать - чтоб
в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?
- Запомнил,- кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И,
поозиравшись еще, ушел.
А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется
им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же
день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках
помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были
выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову
глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе
остановиться, зная, что остановится, присядет - и не встанет. Она двигалась
и не могла надивиться себе, что двигается, не падает - нет, вышло, значит, к
ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради
этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел?
Нет, не смогла бы, нечего и думать.
Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей
известки.
И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды
для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об
окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то
считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело.
Хорошо, не всю вчера извела известку.
- Давай мне,- вызвалась опять Сима. И опять Дарья отказала:
- Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.
Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину
картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы
ссыпать под завтрашнюю - так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак
тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать - спасали, иначе нельзя.
Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось
по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.
Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади
себя разговор и шаги - это пожогщики полным строем направлялись на свою
работу. Возле Дарьи они приостановились.
- И правда, спятила бабка,- сказал один веселым и удивленным голосом.
Второй голос оборвал его:
- Помолчи.
К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече.
Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к "царскому
лиственю". Мужик, кашлянув, сказал:
- Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем
заняться. А завтра все... переезжайте. Ты меня слышишь?
- Слышу,- не оборачиваясь, ответила Дарья.
Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя
спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою
беду и обиду заплакала - сухими, мучительными слезами: настолько горек и
настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же,
может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра - и
что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все
добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно,
все вместе творим зла!
Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб
последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет.
Плакать - значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели,
нет. Перед живыми она ни в чем не виновата - в том разве только, что
зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь,
прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матеру.
В обед собрались опять возле самовара - три старухи, парнишка и
Богодул. Только они и оставались теперь в Матере, все остальные съехали.
Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не
мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью,
привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с
уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в
последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину,
а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с
пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя,
чтобы Богодул немедленно снимался с острова.
- Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве,-
разъяснял он.- Райисколком устроит. Давай-ка собирайся.
- Кур-р-рва! - много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся
тылом.
- Ты смотри... как тебя? - пригрозил, растерявшись, Воронцов.- Я могу и
участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику
разводить не очень. Ты меня понял или не понял?
- Кур-р-рва! - Вот и разбери: понял или не понял.
Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матеру больше не
наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо - то
и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.
За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и
попросила:
- Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где
лягчи-то?
- Японский бог! - возмутился Богодул, широко разводя руки.- Нар-ры.
- А завтра и я к вам,- пообещала Дарья.
После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его
как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом
вышоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы
как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла
на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по
краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не
велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.
Сколько тут хожено, сколько топтано - вон как вытоптались яминами,
будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.
Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей
мочью,- и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они
должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив
все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота.
Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда
угодно, не откажет ни тем, ни другим.
Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами,
отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и
подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не
ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в
кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло
не столько зеленью, сколько сухостью и дымом - ну да недолго ей и лежать,
недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.
Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе
приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от
всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим
местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила.
Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли
кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает,
ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось
полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то
подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а
продолжение никуда не денется, будет.
И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний
угол, в один и другой, и догадалась, чо там должны быть ветки пихты. И над
окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он
где-нибудь на Матере - все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.
Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в
дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не
сходил теперь с Матеры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой
глубинной, как при вспашке земли. "Откуда же это?" - поискала Дарья и не
нашла. "А оттуда, из-под земли,- послышалось ей.- Откуда же еще?" И правда -
откуда же сирой земляной дух, как не из земли?
Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и
шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день,
будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И
дышалось тоже свободно и легко. "Правильно, значит, догадалась про пихту
ту",- подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает
правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине,
разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой
мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра
- тоже, поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со
смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую
птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда
идти, как на дальнюю и вещую посланницу.
Она отыскала пихту, которая сбереглась для нее и сразу же показала
себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома
заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не
помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение,
когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит.
Устали не было, и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались
неслышно и самостоятельно.
Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с
табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас
повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи,
сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный,
застывший лик. "Чует, ох чует, куда я ее обряжаю",- думала Дарья,
оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила,
забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы
под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.
Жуткая и пустая тишина обуяла ее - не взлает собака, не скрипнет ни под
чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках
ветер. Все кругом точно вымерло. Собаки на острове оставались, три пса,
брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матере, кидаясь из
стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.
Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.
И всю ночь она творила ее, виновато и смиренно прощаясь с избой, и
чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.
Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее
похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у
порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла,
прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной
избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли
самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она
оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые,
где квартировали пожогщики.
- Все,- сказала она им.- Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой...
И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила
только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто
сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался
заглянуть ей в глаза.
Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.
Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле "царского
лиственя". Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела,
как сносит с острова последние дымы.
-- Вставай, мать,- поднял ее Павел.- Тетка Настасья приехала.
Повесть «Прощание с Матерой» Распутин впервые опубликовал в 1976 году. Действие произведения происходит в 1960-х годах. В повести автор раскрывает темы взаимоотношений отцов и детей, преемственности поколений, поиска смысла жизни, вопросы памяти и забвения. Распутин противопоставляет людей старой и новой эпох: тех, кто держится за традиции прошлого, имеет тесную связь с малой родиной, и тех, кто готов сжигать избы и кресты ради новой жизни.
Главные герои
Пинигина Дарья Васильевна – коренная жительница Матеры, мать Павла, бабушка Андрея. Была «самой старой из старух» , «высокая и поджарая» со «строгим бескровным лицом» .
Пинигин Павел – второй сын Дарьи, мужчина пятидесяти лет, живет в соседнем поселке с женой Софьей. «В колхозе работал бригадиром, потом завгаром».
Другие персонажи
Пинигин Андрей – внук Дарьи.
Богодул – приблудший «блажной» старик, «выдавал себя за поляка, любил русский мат» , жил в бараке, «как таракан» .
Сима – старуха, которая приехала в Матеру меньше, чем 10 лет назад.
Екатерина – одна из жительниц Матеры, мать Петрухи.
Петруха – «беспутный» сын Екатерины.
Настя и Егор – старики, жители Матеры.
Воронцов – председатель сельсовета и поссовета в новом поселке.
Хозяин острова , «царственный листвень» .
Глава 1
«И опять наступила весна» – «последняя для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название» . Матера была создана триста лет назад.
Ниже по Ангаре начали строить плотину для электростанции, из-за чего вода по реке должна была подняться и вскоре затопить Матеру – оставалось последнее лето, затем всем нужно было переезжать.
Глава 2
У Дарьи за самоваром часто сидели старухи – Настя и Сима. «Несмотря на годы, была старуха Дарья пока на своих ногах» , сама управлялась с хозяйством.
Настасья, лишившись сыновей и дочери, жила с мужем Егором. Их в городе по распределению уже ждала квартира, но старики все медлили с переездом.
Сима приехала на Матеру относительно недавно, у нее здесь никого не было кроме внука Коли.
Глава 3
Санитарная бригада «вела очистку территории» на кладбище – мужчины убирали с могил кресты, тумбочки и оградки, чтобы затем сжечь. Старухи прогнали бригаду и до поздней ночи ставили кресты на место.
Глава 4
На следующий день после случившегося Богодул пришел к Дарье. Беседуя с ним, женщина поделилась, что лучше бы ей не дожить до всего происходящего. Прогуливаясь затем по острову, Дарья вспоминала о прошлом, думала о том, что хотя и прожила «долгую и мытарную жизнь» , но «ничего она в ней не поняла» .
Глава 5
Вечером приехал Павел – второй сын Дарьи, «первого прибрала война» , а третий «нашел смерть на лесоповале» . Дарья не представляла, как будет жить в квартире – без огорода, без места для коровы и куриц, собственной бани.
Глава 6
«А когда настала ночь и уснула Матера, из-под берега на мельничной протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не похожий зверек – Хозяин острова». «Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь знал всех и знал все».
Глава 7
Настасье и Егору пора было уезжать. В ночь перед отъездом женщина не спала. Утром старики собрали вещи. Настасья попросила Дарью присмотреть за своей кошкой. Старики долго собирались – им было очень тяжело оставлять родной дом, Матеру.
Глава 8
Ночью, один из сельчан, Петруха, зажег свою избу. Его мать, Катерина, заранее перенесла скромные пожитки к Дарье и стала жить у старухи.
«И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого щедрого пожарища он хорошо видел блеклые огоньки над живыми еще избами, <…> отмечая, в какой очередности возьмет их огонь».
Глава 9
Приезжая в Матеру, Павел не задерживался тут надолго. Когда Екатерина перебралась к Дарье, ему «стало поспокойней» , так как теперь матери будет помощь.
Павел «понимал, что надо переезжать с Матеры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок, сработанный хоть и богато <…> да поставленный так не по-людски и несуразно» . «Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою»: она как вошла в новую квартиру – «будто тут всегда и была. В день освоилась» . «Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Для нее это чужой рай».
Глава 10
После пожара Петруха где-то пропал. В пожаре сгорел самовар Екатерины, без которого женщина «и вовсе осиротела» . Катерина и Дарья проводили все дни за разговорами, вдвоем им жилось легче.
Глава 11
Начался сенокос. «Полдеревни вернулось в Матеру». Вскоре приехал Петруха в новом костюме – он получил много денег за сожженную усадьбу, но матери отдал только 25 рублей.
Глава 12
К Дарье приехал внук – Андрей, младший сын Павла. Андрей работал на заводе, но уволился и теперь хотел поехать «на большую стройку» . Дарье и Павлу было трудно понять внука, рассуждавшего: «Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть».
Глава 13
Петруха засобирался на стройку вместе с Андреем. В середине сентября приехал Воронцов и распорядился «не ждать последнего дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности» .
Глава 14
Дарья, разговаривая с внуком, высказалась, что люди теперь начали жить слишком быстро: «галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не огляделся – в другу-у-ю» . «Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил выбьешься».
Глава 15
Дарья просила сына и внука перенести могилки родственников. Андрея это пугало, казалось жутким. Павел обещал сделать это, но на следующий день его надолго вызвали в поселок. Вскоре уехал и Андрей.
Глава 16
Постепенно люди начали «эвакуировать из деревни мелкую живность» , сжигались постройки. «Все торопилось съехать, убраться с опасного острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая». Вскоре Дарья забрала к себе Симу с Колей.
Глава 17
Односельчанка рассказала, что Петруха «занимается пожогом оставленных домов» за деньги. «Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе того, что он жжет чужие».
Глава 18
Павел, забирая корову Майку, хотел сразу забрать и мать, но Дарья твердо отказалась. Вечером женщина пошла на кладбище – могилы Павел так и не перенес – к отцу и матери, к сыну. Она думала о том, что «кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? ».
Глава 19
«Матеру, и остров и деревню, нельзя было представить без лиственницы на поскотине». «Царский листвень» «вечно, могуче и властно стоял на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми». «И покуда стоять будет он, будет стоять и Матера». Старые люди относились к дереву с почтением и страхом.
«И вот настал день, когда к нему подступили чужие люди». Мужчинам не удалось ни срубить, ни сжечь старое дерево, его не брала даже бензопила. В конце концов, рабочие оставили лиственницу в покое.
Глава 20
Дарья, несмотря на то, что ее избу уже совсем скоро должны были сжечь, белила дом. Утром растопила печь, убиралась в доме. «Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью, – и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее».
Глава 21
На следующий день на Матеру вернулась Настя. Женщина рассказала, что ее муж Егор умер.
Глава 22
После того как избы были сожжены, старухи перебрались в барак. Узнав об этом, Воронцов был возмущен и заставил Павла и Петруху срочно ехать забирать женщин. Мужчины выехали посреди ночи и долго блуждали в густом тумане.
…Ночью Богодул распахнул двери барака. «Понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой – то был прощальный голос Хозяина». «Откуда-то, будто споднизу, донесся слабый, едва угадывающийся шум мотора».
Заключение
В повести «Прощание с Матерой» В. Г. Распутин, как представитель литературного направления «деревенской прозы», особое внимание уделяет описаниям природы острова, через пейзажи передает настроение героев. Автор вводит в произведение персонажей фольклорного происхождения – Хозяина острова и Богодула, символизирующих старый, уходящий мир, за который продолжают держаться старики.
В 1981 году повесть была экранизирована (режиссеры Л. Шепитько, Э. Климов) под названием «Прощание».
Тест по повести
Проверьте запоминание краткого содержания тестом:
Рейтинг пересказа
Средняя оценка: 4.3 . Всего получено оценок: 1342.
В повести Валентина Распутина "Прощание с Матерой" воплотилась дорогая для писателя русская идея соборности, проповедующая слияние человека с родом, миром и всей Вселенной.
Героини повести - "старинные старухи" с характерными русскими именами и фамилиями: Дарья Васильевна Пинигина, Катерина Зотова, Настасья Карпова, Сима. Среди эпизодических персонажей выделяется имя еще одной старухи - Аксиньи. Самому колоритному персонажу, напоминающему лешего, дано оригинальное символическое имя Богодул. За плечами у всех героев лежит долгая трудовая жизнь, прожитая ими по совести, в дружбе и взаимопомощи. Показательными в этом смысле являются слова старухи Симы - "Греть и греться".
В "Прощание с Матерой" включены несколько эпизодов, поэтизирующих общую жизнь миром. Один из ключевых центров повести - сцена сенокоса. Автор подчеркивает, что главное для людей не сама работа, а благодатное ощущение жизни, удовольствие от сплоченности друг с другом и природой. Необычайно точно подметил различие между укладом жизни жителей Матеры и беспокойной деятельностью строителей ГЭС внук бабки Дарьи Андрей: "Они там живут только для работы, а вы здесь вроде наоборот, вроде как работаете для жизни". Работа для них не является самоцелью, но участием в продлении семейного рода и, если смотреть шире, всего человеческого племени. Вот почему Дарья, ощущая за собой строй поколений предков ("строй, которому нет конца"), не может смириться, что родные могилы исчезнут под водой. Ее страшит то, что она останется одна, так как порвется цепь времен.
Поэтому Дом для Дарьи и других старух это только место для жилья и вещи - это одушевленная предками часть их жизни. Дважды прощаются с домом, с вещами сначала Настасья, а потом Дарья. В двадцатой главе повести, в которой Дарья через силу белит свой обреченный на сжигание дом, украшает его пихтой, точно отражены христианские обряды соборования, когда перед смертью наступает духовное облегчение и примирение с неизбежностью. Словно покойника дом обмывают, отпевают и готовят к неизбежному, назначенному "назавтра", погребению.
В монолог загадочного зверька, хранителя острова, Распутин вкладывает следующую мысль, руководящую поведением старух и Богодула: "Все, что живет на свете, имеет один смысл - смысл службы". Все персонажи осознают себя ответственными перед ушедшими за продолжение жизни. По их мнению, Земля дана человеку "на подержание": ее надо беречь, сохранить для потомков.
Писатель находит удивительно емкую метафору для выражения мыслей Дарьи Васильевны о течении жизни: род - это нитка с узелками. Когда одни узелки распускаются, умирают, то на другом конце завязываются новые. И старухам совсем не безразлично, какими будут эти новые люди. Вот почему Дарья Пинигина постоянно размышляет о смысле жизни, истине, спорит с внуком Андреем, задает вопросы умершим.
В ее спорах, размышлениях и даже в обвинениях содержатся и праведная торжественность, и тревога, и обязательно любовь. "Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла", "Кто знает правду о человеке: зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение?.. Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него первого началась жизнь и им она навсегда закончится", - рассуждает Дарья.
Раздумья Дарьи о продолжении рода и своей персональной ответственности за него перемешиваются у нее с тревогой о "полной правде", о необходимости памяти, сохранения ответственности у потомков. Эта тревога как никогда сопряжена с трагическим осознанием эпохи.
Во внутренние монологи Дарьи Распутин вкладывает мысли о необходимости каждому человеку "самому докапываться до истины" и жить работой совести. Особенно тревожит и автора, и его стариков и старух желание все большей части людей "жить не оглядываясь", "облегченно", нестись по течению жизни. Так, Дарья бросает в сердцах своему внуку: "Пуп не надрываете, а душу потратили". Героиня не против развития технического прогресса, воплощенного в машинах, облегчающих человеческий труд. Для мудрой крестьянки неприемлемо, чтобы человек, обладающий благодаря технике огромной силой, уничтожал жизнь, бездумно подрубая сук, на котором пока еще сидит. Показателен диалог Андрея и Дарьи. "Человек - царь природы", - пытается убедить бабушку Андрей. "Вот-вот, царь. Поцарюет, по-царюет, да загорюет", - отвечает Дарья. Лишь в единстве друг с другом, с природой, со всем Космосом смертный человек может победить смерть, по крайней мере, если не индивидуальную, то родовую.
В "Прощании с Матерой" Валентин Распутин образно описывает красоты первозданной природы - тихое утро, свет и радость, звезды, Ангара, ласковый дождь, что являют собой светлую часть жизни и благодать. Но они же создают тревожную атмосферу в тон мрачным мыслям стариков и старух, предчувствующих драматическую развязку.
Уже на первых страницах повести присутствует трагическое противоречие, сгущенное до символической картины. Согласию, покою и миру, прекрасной полнокровной жизни, которой дышит Матера, противостоит запустение, оголение, истечение (любимое слова автора). "Темь пала" на Матеру, утверждает Распутин, многократными повторами этого словосочетания вызывая ассоциации с традиционными текстами Древней Руси и с апокалипсическими картинами Откровения Иоанна Богослова. Именно здесь появляется эпизод пожара, а перед этим событием "звезды срываются с неба".
Хранителям народных, родовых ценностей писатель противопоставляет современных "обсевков", которых он рисует в крайне жесткой манере. Лишь внука Дарьи Пинигиной Распутин наделил более или менее сложным характером. Так, Андрей уже не чувствует себя ответственным за род, за землю предков. В свой последний приезд перед отъездом он так и не обошел родную Матеру, не простился с ней. Андрея манит суета грандиозной стройки. Он чуть ли не до хрипоты спорит с отцом и бабушкой, отрицая то, что для них является исконными ценностями.
Однако в нем еще не совсем умерло единение с природой. "Минутное пустое глядение на дождь", завершивший семейную дискуссию, "сумело снова сблизить" Андрея, Павла и Дарью. Столь же объединяет их и работа на сенокосе. Для Распутина характерно наделять уничижительными именами и фамилиями персонажей, изменивших национальным традициям. В душе Андрею жалко остров. Потому он и не поддерживает Клавку Стригунову, радующуюся исчезновению родной Матеры. Несмотря на свое несогласие с Дарьей, он, в то же время, ищет бесед с ней, "ему для чего-то был ее ответ" о сущности и предназначении человека
Совсем иронично и зло показаны другие антиподы "старинных старух". Болтун и пьяница Никита Зотов, сорокалетний сын Катерины, за свой принцип "лишь бы прожить сегодняшний день" лишен даже своего имени - превращен в Петруху. Автор создает неологизм "петрухать" по сходству с глаголами "громыхать", "воздыхать". Падение Петрухи приводит к тому, что он сжигает родной дом (то же сделала и Клавка) и издевается над матерью. Отвергнутый деревней и матерью Петруха словно стремится новым бесчинством привлечь к себе внимание, чтобы таким злым способом утвердить свое существование в мире.
Верхом исключительного зла, беспамятства и бесстыдства утверждают себя в жизни т.н. "официальные лица", которых Распутин снабжает не только "говорящими" фамилиями, но и не менее символическими характеристиками: Воронцов - турист (без какой-либо заботы шагающий по земле), Жук - цыган (безродный человек, лишенный корней, перекати-поле). Если речь стариков и старух образна и выразительна, а речь Павла и Андрея - литературно правильна, но сбивчива, - то "официальные лица" Воронцов и ему подобные говорят рублеными фразами-штампами, где превалирует императив ("Понимать будем или что будем?", "Кто позволил?", "И никаких", "Вы мне опять попустительство подкинете", "Что требуется, то и будем делать. Тебя не спросим").
В финале повести Распутин сталкивает обе стороны, не оставляя сомнений в том, за кем правда. В тумане символично заблудились Воронцов, Павел и Петруха. Даже Воронцов "затих", "сидит с опущенной головой, бессмысленно глядя перед собой". Все, что остается им делать, - подобно детям" звать мать, что и делает Петруха: "Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матера-а!" Делает он это "глухо и безнадежно", после чего засыпает беспробудным сном. "Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и тумана". А старухи Матеры в это время, в последний раз объединившись друг с другом и маленьким Колюней, в глазах которого "недетское, горькое и кроткое понимание", покидают это мир, удаляясь на небеса.
Трагический финал повести просветлен рассказом о царском листвене - символе вечной, неувядаемой жизни. По преданию, это дерево держит на себе весь остров, всю Матеру. Листвень не удалось ни сжечь, ни спилить. Еще раньше В. Распутин скажет дважды, что, как бы тяжело ни сложилась дальнейшая жизнь переселенцев, вынужденных жить в поселке, построенном на неудобном месте, "жизнь... она все перенесет и примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится если, то и под водой". Одна из особенностей человека - его умение сроднится с любым местом, и преобразовать его своим трудом. В это заключается еще одна его миссия во вселенской бесконечности.
Метки публикации:
Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его – тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвепь присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имели свои причины.
Толстые огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны – будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «Пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.
И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «Пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.
Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».
За век свой он наровнял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, – и кора со временем сползла, листвень оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкиe, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление – и только, все остальное казалось цельным и литым.
А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.
И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.
Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, – с такой силой он спружинил обратно.
– Ого! – изумился мужик. – Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два – четыре. Не таких видывали.
Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.
Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.
– Как железное, – признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу:– Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять – двадцать пять.
Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.
– Вот так, – удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. – Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.
И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.
Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.
– Гляди-ка ты! – удивился тот же мужик. – Стоит! Ну постой, постой… – Это был веселый мужик, он баском пропел:– «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».
Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой – пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.
– Ну зверь! – с восхищением щурился на листвень веселый мужик. – На нашего хозяина похожий. – Он имел в виду Богодула. – Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть – тридцать шесть.
– Плюнуть на него, – неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя – в болотных сапогах. – К чему нам дочиста все соскребать!
Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:
– Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.
– Пилу надо.
– Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.
– Я говорю про бензопилу.
– Не пойдет. Ишь че: ширше… – следовало непечатное слово. – Для него твоя бензопила – что чикотка.
Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.
– Что зря базарить?! – с усмешкой сказал он. – Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.
– Разводили же вчера.
– Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.
– Давай попробуем еще. Должна загореться.
Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин – не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.
– Как дважды два – четыре, – победно крикнул тот, веселый…
Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.
Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.
Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.
– Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, – согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.
И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:
– Плюнуть на него – и дело с концом! Пускай торчит – хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались…
– Все бы плевали! – разозлился бригадир. – Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут – куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?
– Было бы это дерево…
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее – пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом – не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, – результат один. И бригадир оставил пилу.
– Неповалимый, – сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. – Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!
Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:
– Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь…
И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвень» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.
Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.
| |
А на острие этого многовекового клина, чуть отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче, все нетерпеливей и яростней… Они спрашивают о надежде, они говорят, что она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька, сын ее, зашибленный лесиной…
Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья подумала нетвердой мыслью: «Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя. Выходит, так».
Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она, подковыляв, опять опустилась на землю. «Тянет, тянет земля, – отметила она. – Седни, как никогда, тянет». Она боялась разговаривать с сыном: вот кого действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше, дальше… Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его – солнечный свет померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.
А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить. Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни, как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше – впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания – зачем тогда приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной материнской ратью, молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она, – и что из этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так, будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы, мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было – то, что зовут жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали. Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.
«Устала я, – думала Дарья. – Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим, спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че делает, кто че помнит. Правда в памяти».
И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.
Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти, чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную правду. Она с трудом поднялась и пошла.
Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя; прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий «царский листвень». И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная Матёра.
Матёру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю сторожевую службу. Но говорить «она» об этом дереве никто, пускай пять раз грамотный, не решался; нет, это был он, «царский листвень» – так вечно, могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его – тогда и грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией «царскому лиственю» верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвепь присел и потратился, но нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз им, «царским лиственем», и крепится остров к речному дну, одной общей земле, и покуда стоять будет он, будет стоять и Матёра. Не в столь еще давние времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же, конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться. Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это, верно, имели свои причины.
Толстые огромные ветви отходили у «царского лиственя» от ствола не вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны – будто росли вбок самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в четырех от земли и издавна звалась «Пашиным суком»: когда-то на нем повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша. Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в Матёре никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых, торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни: сбросили с яра в Ангару.
И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под «царским лиственем» после войны: все с того же «Пашиного сука» оборвался и захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.
Вот сколько всяких историй связано было с «царским лиственем».
За век свой он наровнял так много хвои и шишек, что земля вокруг поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты серы, которой потом одаривали девок, – и кора со временем сползла, листвень оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые и тонкиe, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней, приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое корявое углубление – и только, все остальное казалось цельным и литым.
А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась когда-то подняться рядом с грозным «царским лиственем». И он помиловал ее, не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из великой и капризной своей милости.
И вот настал день, когда к нему, к «царскому лиственю», подступили чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую они исполняли на Матёре добрых две недели. И как ни исправно, как ни старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли. Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились к дереву.
Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову, – с такой силой он спружинил обратно.
– Ого! – изумился мужик. – Зверь какой! Мы тебе, зверю… У нас дважды два – четыре. Не таких видывали.
Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню, зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин, сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не годились: на том и другом темнели дырки.
Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь, нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот, что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой, осмотрел на свет острие топора и покачал головой.
– Как железное, – признал он и опять ввернул непонятную арифметическую угрозу:– Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять – двадцать пять.
Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул ствол.
– Вот так, – удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли топор. – Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.
И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что, покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.
Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.
– Гляди-ка ты! – удивился тот же мужик. – Стоит! Ну постой, постой… – Это был веселый мужик, он баском пропел:– «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться вдоволь на тебя».
Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики, это были они, вернулись к лиственю всей командой – пять человек. Снова ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от резины.
– Ну зверь! – с восхищением щурился на листвень веселый мужик. – На нашего хозяина похожий. – Он имел в виду Богодула. – Такой же ненормальный. Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас шестью шесть – тридцать шесть.
– Плюнуть на него, – неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй вчерашний знакомец лиственя – в болотных сапогах. – К чему нам дочиста все соскребать!
Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не походить на мальчишку, задрал вверх голову:
– Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.
– Пилу надо.
– Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по металлу надо.
– Я говорю про бензопилу.
– Не пойдет. Ишь че: ширше… – следовало непечатное слово. – Для него твоя бензопила – что чикотка.
Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую горелую стружку и понюхал ее.
– Что зря базарить?! – с усмешкой сказал он. – Нашли закавыку! Гольное смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.
– Разводили же вчера.
– Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.
– Давай попробуем еще. Должна загореться.
Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи. Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К тому времени был доставлен бензин – не жалея, полили им вокруг весь ствол и снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный, дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали лица верхонками.
– Как дважды два – четыре, – победно крикнул тот, веселый…
Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал, слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.
Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к «царскому лиственю» не приставал, только мазал его сажей.
Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не признавая никакой силы, кроме своей собственной.
– Надо завтра бензопилой все-таки попробовать, – согласился бригадир, только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.
И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:
– Плюнуть на него – и дело с концом! Пускай торчит – хрен с ним! Кому он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим связались…
– Все бы плевали! – разозлился бригадир. – Плевать мы мастера, этому нас учить не надо. А принимать приедут – куда ты его спрячешь? Фуфайкой закроешь? Неужели дерево не уроним?
– Было бы это дерево…
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному подступили к «царскому лиственю» с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир. Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее – пила зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким надрезом – не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее перерезать, – результат один. И бригадир оставил пилу.
– Неповалимый, – сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз смерил его глазами от земли доверху. – Пускай с тобой, с заразой, возится, кому ты нужна!
Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на березу:
– Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь…
И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и норовистым, не поддавшимся людям «царским лиственем», упала, ломая последние свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое старческое волокно. «Царский листвень» не шелохнулся в ответ. Чуть склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы. Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матёре жалась такая же голая, обезображенная Подмога.
Один выстоявший, непокорный «царский листвень» продолжал властвовать надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.
Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его, вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в поселок, а потом через «не могу» нажигать этот камень, как в старину. Но на диво, и сама начинала – не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и добыла известку.
Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.
Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза – после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на Пасху. Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.
Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него, покойника в гроб не кладут – так принято. А как можно отдать на смерть родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет, другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла, стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.
А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:
– Ну что, бабки, – перед ним они были вcе вмеcте – Дарья, Катерина и Сима, – нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам – доканчивать свое дело. Давайте не тяните.
И Дарья заторопилась – не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь верхний край Матёры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок, которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не вырвать.
Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:
– А я свою не прибрала.
– Ты ж не знала, как будет, – хотела успокоить ее Дарья.
– Не знала, – без облегченья повторила Катерина.
Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться, Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав, приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась – сначала на четвереньки, – хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными, размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается, Сима просила:
– Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.
– Сиди! – в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее немощь.
Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить ее не учить, за жизнь свою набелилась – и известка ложилась ровно, отливая от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь и сравнивая, Дарья замечала: «Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох, чует, чует, не иначе». И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и верилось, что так и должно белиться.
Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже пожогщик – они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко разинул глаза:
– Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать будем, а она белит. Ты что?!
– Завтри и поджигай, поджигатель, – остановила его сверху Дарья суровым судным голосом. – Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать – чтоб в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?
– Запомнил, – кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И, поозиравшись еще, ушел.
А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе остановиться, зная, что остановится, присядет – и не встанет. Она двигалась и не могла надивиться себе, что двигается, не падает – нет, вышло, значит, к ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел? Нет, не смогла бы, нечего и думать.
Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей известки.
И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело. Хорошо, не всю вчера извела известку.
– Давай мне, – вызвалась опять Сима. И опять Дарья отказала:
– Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.
Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы ссыпать под завтрашнюю – так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать – спасали, иначе нельзя. Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.
Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади себя разговор и шаги – это пожогщики полным строем направлялись на свою работу. Возле Дарьи они приостановились.
– И правда, спятила бабка, – сказал один веселым и удивленным голосом.
– Помолчи.
К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече. Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к «царскому лиственю». Мужик, кашлянув, сказал:
– Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем заняться. А завтра все… переезжайте. Ты меня слышишь?
– Слышу, – не оборачиваясь, ответила Дарья.
Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою беду и обиду заплакала – сухими, мучительными слезами: настолько горек и настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же, может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра – и что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно, все вместе творим зла!
Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет. Плакать – значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели, нет. Перед живыми она ни в чем не виновата – в том разве только, что зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь, прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матёру.
В обед собрались опять возле самовара – три старухи, парнишка и Богодул. Только они и оставались теперь в Матёре, все остальные съехали. Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью, привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину, а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя, чтобы Богодул немедленно снимался с острова.
– Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве, – разъяснял он. – Райисколком устроит. Давай-ка собирайся.
– Кур-р-рва! – много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся тылом.
– Ты смотри… как тебя? – пригрозил, растерявшись, Воронцов. – Я могу и участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику разводить не очень. Ты меня понял или не понял?
– Кур-р-рва! – Вот и разбери: понял или не понял.
Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матёру больше не наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо – то и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.
За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и попросила:
– Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где лягчи-то?
– Японский бог! – возмутился Богодул, широко разводя руки. – Нар-ры.
– А завтра и я к вам, – пообещала Дарья.
После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом вышоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.
Сколько тут хожено, сколько топтано – вон как вытоптались яминами, будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.
Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей мочью, – и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота. Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда угодно, не откажет ни тем, ни другим.
Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами, отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло не столько зеленью, сколько сухостью и дымом – ну да недолго ей и лежать, недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.
Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила. Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает, ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а продолжение никуда не денется, будет.
И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний угол, в один и другой, и догадалась, чо там должны быть ветки пихты. И над окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он где-нибудь на Матёре – все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.
Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не сходил теперь с Матёры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой глубинной, как при вспашке земли. «Откуда же это?» – поискала Дарья и не нашла. «А оттуда, из-под земли, – послышалось ей. – Откуда же еще?» И правда – откуда же сирой земляной дух, как не из земли?
Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день, будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И дышалось тоже свободно и легко. «Правильно, значит, догадалась про пихту ту», – подумала она.