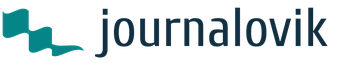Ниже Григорий Юдин отвечает на вопрос проекта The Question - "Существует ли вообще в России «последняя капля» - то, после чего народ уже не сможет терпеть, или всё совсем запущено?"
Нет - ее не существует не только в России, но и вообще нигде. Ожидание «последней капли» основано на неверном представлении об устройстве коллективного действия. Многие ждут, что рано или поздно власти сделают что-нибудь настолько вызывающее, что спровоцируют встречную волну коллективного действия. При этом предполагается, что «действие зависит от убеждений»: если люди видят что-то радикально недопустимое с точки зрения их убеждений (фальсификация выборов, пытки в колониях, пенсионная реформа), то они пойдут протестовать. А раз они не протестуют, то их всё устраивает.
Из-за такой теории многие расстраиваются, что какие-то совсем уж безумные происшествия не вызывают народного гнева или, хуже того, откровенно антинародные решения правительства встречают поддержку. Отсюда обычно делается вывод, что стало быть, бесчеловечные действия властей соответствуют народным желанием, что у народа в России такие зверские убеждения или «ценности» (под этим понимаются какие-то совсем фундаментальные убеждения, которые не подлежат изменению). Проблема, однако, состоит в том, что эта теория неверна - человек так не устроен. С начала ХХ века, после появления феноменологической и прагматистской философии, исследователям действия ясно, что на самом деле всё наоборот, в значительной мере «убеждения зависят от действия». Наши убеждения формируются в зависимости от того, что мы можем или не можем практически сделать. Мы все неосознанно желаем чувствовать уверенность в том, что мир вокруг нас согласован и предсказуем, мы стараемся избежать разрывов и диссонансов в практическом опыте. Поэтому мы не хотим чувствовать противоречий между собственными убеждениями и практическими действиями.
В России давно и целенаправленно насаждается уверенность в том, что никакие протесты не могут ничего изменить, а коллективные действия вообще невозможны, потому что каждый сам за себя. Любое убеждение, из которого следует, что «надо что-то делать», приходит в противоречие с этой практической уверенностью в беспомощности. Это создаёт очень большое психологическое давление, и мы совершенно естественно стараемся его избежать - так же, как мы убеждаем себя, что не очень хотим вещи, которую, как нам кажется, невозможно достать.
Поэтому убеждение в том, что «дальше терпеть нельзя», может возникнуть только тогда, когда есть практическая уверенность в том, что можно что-то сделать. Если такой уверенности нет, то убеждения будут подстраиваться под беспомощность, чтобы не ставить нас в мучительное положение, когда мы одновременно уверены в том, что обязаны что-то сделать, и что сделать ничего нельзя. Так, человек, которого заставили пойти на избирательный участок, вряд ли станет в этом публично признаваться - скорее всего, он постарается убедить себя в том, что это было в значительной степени его собственное решение. И лучше не пытаться убедить его в том, что он стал жертвой насилия - скорее всего, это вызовет противоположный эффект и желание настоять на своём.
Так что в наших нынешних условиях ответ на вопрос «что должно случиться, чтобы люди наконец перестали терпеть» прост: ничего. Вместо этого стоит задуматься о том, что нужно сделать, чтобы уничтожить миф о беспомощности. Правда состоит в том, что когда в России происходят организованные коллективные действия, они очень часто добиваются успеха, это подтверждается множеством примеров. Просто власти пытаются это скрыть и сделать вид, что не заметили давления. Особенность России состоит не в том, что мы как-то особенно склонны одобрять людоедство, а в том, что у нас очень низкая вера в коллективное действие. Это типично для авторитарных политических режимов. Как только вера в себя появляется, мы перестаём прощать то, что ещё вчера прощалось, и начинаем реагировать как следует.
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
- Научно-педагогический стаж: 12 лет.
Образование, учёные степени
- Кандидат наук: специальность 09.00.01 «Онтология и теория познания»
- MA: специальность 22.00.00 «Социологические науки»
Магистратура: Государственный университет-Высшая школа экономики, специальность «Социология»
Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Социология, специальность «Социология»
Бакалавриат: Высшая школа экономики, факультет: Социология, специальность «Социология»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
Обучение на программе PhD in Politics, New School for Social Research, New York, 2015-
Полномочия / обязанности
Старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований
Выпускные квалификационные работы студентов
- Бакалавриат
Статья Юдин Г. Б. // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2014. № 3. С. 126-129.
Статья Юдин Г. Б. , Колошенко Ю. А. // Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. 2014. № 5
Статья Юдин Г. Б. // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2014. № 2. С. 53-56.
Статья Юдин Г. Б. // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. Т. 26. № 3. С. 344-354. doi
Статья Юдин Г. Б. // Философия. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т. 1. № 1. С. 123-133.
Глава книги Юдин Г. Б. // В кн.: Рабочие тетради по биоэтике Вып. 20: Гуманитарный анализ биотехнологических проектов «улучшения» человека. М. : Издательство Московского гуманитарного университета, 2015. Гл. 7. С. 91-104.
Препринт Ларкина Т. Ю. , Юдин Г. Б. / ПСТГУ. Серия 2221-7320 "Материалы исследовательского семинара «Социология религии»". 2015.
Книга , Шолохова С. А., Сокулер З. А. , Бенуа Ж., Ришир М., Марион Ж., Анри М., Левинас Э., Бернет Р., Мерло-Понти М., Мальдине А., Детистова А. С. , Стрелков В. И., , Юдин Г. Б. / Перев.: А. С. Детистова , В. В. Земскова, В. И. Стрелков, , С. А. Шолохова, Г. Б. Юдин , ; сост.: , С. А. Шолохова; под общ. ред.: , С. А. Шолохова. М. : Академический проект, 2014.
Глава книги Юдин Г. Б. // В кн.: Альманах Центра исследований экономической культуры факультета свободных искусств СПбГУ. М. : Институт Гайдара, 2014. С. 33-49.
Конференции
- Wertediskurs mit Russland (Берлин). Доклад: Gefährliche Werte und die Falle des Wertediskurses (Опасные ценности и ловушка дискурса ценностей)
- Civil Society in the XXI century (Санкт-Петербург). Доклад: Respect and despise: Hegel’s theory of public opinion
- Images of sovereignty (Лёвен). Доклад: Taming the sovereign: plebiscite against popular democracy in Max Weber’s theory of sovereignty
- Salzburg Workshop in Legal and Political Philosophy (Зальцбург). Доклад: Plebiscitarianism is not populism: what Putin’s rule tells about the crisis of liberal democracy
- 49th Annual ASEEES Convention (Чикаго). Доклад: Two Memories and Multiple Pasts for Russian History
- Russian Economic Challenge (Москва). Доклад: Ресурсное проклятие и демократия: Кому нужна диверсификация?
- First Braga Colloquium in the History of Moral and Political Philosophy (Брага). Доклад: Public opinion polls as a technology of dual representation
- How to be Authoritarian? (Нью-Йорк). Доклад: Governing through polls: Putin’s support and political representation in Russia
- Большие ПНиСии - Социальные науки в авторитарном государстве (Санкт-Петербург). Доклад: Опросы общественного мнения в России - проблема репрезентации
- XI Конгресс антропологов и этнологов России (Екатеринбург). Доклад: «Взять кредит, чтобы не быть в долгу»: Закредитованность российских потребителей с точки зрения теории дарообмена
- XXII Международный симпозиум Пути России (Москва). Доклад: Опросы общественного мнения как техника политической репрезентации
- Back to the Future? Ideas and Strategies of Retrograde Modernization in Russia and the Post-Soviet Region (Берлин). Доклад: Assembling the people: Strategies of manufacturing popular sovereignty through opinion polls
- HistoriCity: Urban Space and Changing Historical Culture (Москва). Доклад: Tale and tradition: Different Mechanics of Producing Touristic Experience in a Small Town
- Annual Conference of the Association of Social Anthropologists: Anthropology and Enlightenment (Эдинбург). Доклад: To pay and not to pay: Moral regimes of debt economies in Russian towns
- Intellectual History vis-a-vis the Sociology of Knowledge: between Models and Cases (Москва). Доклад: Historicism and sociologism in the history of German sociology: The case of Helmut Schelsky
- 12th Conference on Urban History Cities in Europe, Cities in the World (Лиссабон). Доклад: Strategies of manufacturing tourist experience in a small town: Local community and symbolic construction in Myshkin
- Экономическая культура: ценности и интересы (Санкт-Петербург). Доклад: Free Riders between Models and Bus Stops: For a Sociology of Disembedded Economy
- Вторая международная социологическая научно-практическая конференция «Продолжая Грушина» (Москва). Доклад: Пределы репрезентативности и провалы репрезентации
- Embeddedness and Beyond: Do Sociological Theories meet Economic Realities? (Москва). Доклад: Free Riders between Models and Bus Stops: For a Sociology of Disembedded Economy
- 13th Annual Philosophy of social science roundtable (Париж). Доклад: Reflexivity at the crossroads: from reflexive objectification to reflexive subjectification
- 30th Annual Conference of the European Society for the History of the Human Sciences (Белград). Доклад: Between reality and reflexivity: Helmut Schelsky and transformations of German sociology
- On Error (Лондон). Доклад: Community of errors: The paradox of logical socialism
Debt: Interdisciplinary considerations of an enduring human passion (Кембридж). Доклад: To pay and not to pay: Symbolic meaning and structure of debt relationships in a Russian town
Научный руководитель диссертационных исследований
на соискание учёной степени кандидата наук
- Шаблинский А. И. Концепция свободы в политической философии Жана-Жака Руссо (aспирантура: 3-й год обучения)
- Хумарян Д. Г. Способы социальной регуляции труда на предприятиях гибкой специализации: социологический анализ практик менеджмента (aспирантура: 3-й год обучения)
- Коновалов И. А. Условия труда и смыслы свободного времени работников индустриальной и "новой" экономики (aспирантура: 3-й год обучения)
Опыт работы
2012- Старший научный сотрудник, Лаборатория исследований экономической социологии НИУ ВШЭ
2018- Доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ
2013- Профессор, научный руководитель программы "Политическая философия", Московская Высшая Школа Социальных и Экономических Наук
2007-2018 Старший преподаватель факультета социальных наук НИУ ВШЭ
2007-2011- Стажёр-исследователь, Лаборатория исследований экономической социологии НИУ ВШЭ
Правда ли, что власти проводят соцопросы с помощью спецслужб?
Работа российских социологических служб традиционно вызывает много вопросов: насколько их контролируют власти, можно ли верить результатам опросов, зачем нужны «секретные опросы Федеральной службы охраны». После недавнего признания «иностранным агентом» одной из трех крупнейших социологических служб страны — «Левада-центра» — вопросов стало еще больше. «Медуза» попросила ответить на самые распространенные вопросы о российской социологии профессора Московской Высшей Школы Социальных и Экономических Наук (Шанинки) Григория Юдина.
MEDUZA
Россиян затягивает жизнь взаймы
Кредитная нагрузка населения малых городов России почти в полтора раза выше, чем городов-миллионников — результаты исследования научных сотрудников Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Григория Юдина и Ивана Павлюткина «Долг и сообщество: две долговые экономики малых городов».
Независимая газета.ru
В музейно-выставочном центре «Рабочий и колхозница» на ВДНХ продолжаются лекции преподавателей ВШЭ. В августе там пройдет цикл «Экономика для жизни», слушатели которого смогут узнать, на что тратят деньги москвичи, что сейчас происходит с криптовалютами и как не попасть в долговую ловушку.
В День социолога, 14 ноября,в рамках серии семинаров Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ с докладом "Что исследователи не хотят знать о стандартизации?" и презентацией собственной книги «В тени опросов, или будни полевого интервьюера» выступил Дмитрий Рогозин, кандидат социологических наук, руководитель Лаборатории методологии социальных исследований РАНХиГС и старший научный сотрудник Института социологии РАН.
12 сентября 2017 г. стартовал очередной сезон семинаров Лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ), и на первом из них по традиции выступил Вадим Валерьевич Радаев, заведующий кафедрой экономической социологии и ЛЭСИ, первый проректор НИУ ВШЭ.
22 февраля 2017 года в ИГИТИ состоялся круглый стол «История точных методов как проблема наук о человеке». Обсуждение посвящено истории и становлению в России, Европе и мире количественных подходов, методов и статистики (с упором на первую половину ХХ века) в разных гуманитарных и социальных науках, в том числе и в свете нынешнего спроса на Digital Humanities. Сегодня нам, гуманитариям, явно не хватает продуктивного научного общения с экономистами и социальными учеными именно тогда, когда речь заходит о схожих и общих методологических или историографических проблемах. Мы надеемся, что настоящий круглый стол стал шагом к выявлению и возможному сопряжению наших исследовательских перспектив. Предлагаем Вашему вниманию видеорепортаж.
17 января в Лаборатории экономико-социологических исследований прошел семинар серии «Социология рынков». Младший научный сотрудник Института проблем правоприменения (Европейский университет в Санкт-Петербурге), соискатель степени кандидата социологических наук НИУ ВШЭ Четверикова Ирина представила свой проект, посвященный мобилизации уголовного закона об экономических преступлениях в сфере предпринимательства в России.
22 декабря 2016 года состоялся круглый стол «После духа / Вместо Geist: трансформация наук о человеке и обществе в первые десятилетия ХХ века». Мероприятие завершило работу научно-учебной группы «Науки о человеке как социально-политические проекты». Прошло обсуждение ключевой перемены одного из базовых понятий этой области знаний.
29 ноября в рамках серии семинаров "Социология рынков" Лаборатории экономико-социологических исследований с докладом "Общественная цена социальных изменений и подходы к её измерению на основе опросов населения с использованием экспериментальных ситуаций" выступил Владимир Карачаровский, кандидат экономических наук, доцент Департамента прикладной экономики и заместитель заведующего Лабораторией сравнительного анализа развития постсоциалистических обществ.
Социологи Иван Павлюткин и Григорий Юдин рассказывают в "Вестнике НАУФОР" о том, почему человек не всегда рационален, даже если речь идет о деньгах; о том, как устроена современная Россия в антропологическом смысле; а также обдумывают гипотезу о необязательности финансовых кризисов.
Григорий Борисович Юдин - социолог, философ, кандидат философских наук, научный руководитель программы "Политическая философия" и профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки), старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ.Ниже размещен фрагмент из его интервью "Новой газете". Полностью всю беседу можно прочесть на сайте издания .
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Начиная с девяностых мы строили либерально-демократическое общество, но из этих двух компонентов думали только об одном. Мы импортировали либерально-демократическую систему в урезанном виде — либерализм без демократии. Главными задачами было построить рыночную экономику, обеспечить экономический рост, создать конкуренцию, вынудить людей быть предприимчивыми под угрозой выживания и научить их, что никто о них не позаботится, если они не позаботятся о себе сами. Сегодня уверенность в том, что помощи ждать неоткуда и каждый должен спасать себя сам, стала для россиян основным принципом жизни. В результате усилилось радикальное отчуждение между людьми и не возникло веры в коллективное действие.
Демократическая же сторона дела мало кого волновала. Но то, что мы не взяли, считая неважным, и есть самое главное: институты местного самоуправления, местные сообщества, профессиональные группы. Развитием местного самоуправления в 1990-е годы практически не занимались, а потом его вообще начали целенаправленно душить. Не занимались низовой инициативой и профессиональными ассоциациями: напротив, во всех областях, которые традиционно управлялись профессионалами, мы видим теперь бесконечную власть менеджеров и администраторов. Классический пример — это медицина. Врачи по всей стране стонут от объема отчетности, которую их заставляют производить бюрократы. Создается странная извращенная мотивация через выполнение показателей и зарабатывание денег, хотя ни то, ни другое для профессионалов не характерно — профессионалы работают за уважение со стороны общества, потому что их труд признается и ценится.
Наша проблема в том, что в России господствует агрессивный индивидуализм, который подпитывается страхом и превращается в жесткую конкуренцию, тотальное взаимное недоверие и вражду. Заметьте, что в России личный успех как раз очень ценится: включите любое телевизионное ток-шоу, там в качестве образцов предъявляются звезды, которые удачно сделали карьеру или бизнес, — а вовсе не те, кто что-то делает для общества.
Мы часто принимаем за коллективизм зависть, неумение поддержать инициативу и развитие другого человека, понять их ценность для себя. Но это как раз проблема отсутствия общей коллективной базы — почему я должен радоваться твоим успехам, если каждый сам за себя? Точно так же уважение к правам других индивидов появляется, только если есть коллективная деятельность по защите общих прав. Только в этом случае я знаю, какова их цена, и понимаю, что от ваших прав зависят мои собственные, что мы находимся в одной лодке.
Человек так устроен, что ему нужны какие-то коллективные цели, нужна какая-то идентичность. Мобилизация 14-го года — это просто способ власти ответить на этот запрос — отчасти непредумышленный, но отчасти просчитанный. Мы видели, как те же самые люди, которые показывали себя в разных движениях двумя годами ранее, брали оружие и ехали на Донбасс. Все потому, что им, грубо говоря, нужен был смысл жизни.
В этом проблема сегодняшней России: люди не очень понимают, в чем состоит смысл, каковы общественно признанные цели жизни. Инициатива снизу подавляется, а единственный образец, который предлагается, — это повышение стандарта потребления. Но потребление не дает смыслов, ради которых стоило бы жить. Мобилизация 14-го года показала, что никаких «консервативных ценностей», которые, по идее, могли бы заполнить этот вакуум, у нас нет. Множество семей раскалывалось сразу по линии Россия/Украина. И сейчас мы видим, как раскалывается православная церковь. Это и есть атомизация — когда институты общей жизни слабы, то людей очень просто натравить друг на друга. <...>
Грубо говоря, фарцовщик самостоятелен и смел, но он не может решить проблему запроса на коллективность. Сегодня это бегство в одиночку, почти врассыпную. Анархистов же всегда интересует коллективное сопротивление — от Петра Кропоткина до Джеймса Скотта и Дэвида Грэбера вопрос всегда состоял в том, как люди совместно организуют свою жизнь помимо государства и вопреки ему. А с этим в России большая проблема — как только ты решаешь что-то поменять не только для себя, но и вокруг себя, вместе с другими, ты немедленно сталкиваешься с государством, которое внимательно пресекает любую инициативу. Множество индивидуально успешных и независимых людей в России знает это на своем опыте. Конечно, велико искушение сказать «раз я ничего не могу с этим государством сделать, я сделаю вид, что его нет». Но оно есть, и оно немедленно даст о себе знать, как только вы зайдете на его поляну.
Ведь сам по себе побег от государства государству очень удобен. Государственники вроде Симона Кордонского страшно счастливы, что люди таким образом сбегают. Это же для государства двойной профит: во-первых, это самостоятельные люди, они о себе позаботятся, с ними не надо делиться; во-вторых, они не будут предъявлять никаких политических требований и не создают никакой угрозы порядку. Абсолютно идеальные люди. <...>
Человек вообще не хочет жить по нормам прожиточного минимума. Человек стремится к справедливости — распределение ресурсов в обществе должно быть людям понятно. Это не значит, что все хотят быть миллиардерами или быть богаче всех — вообще-то людям это обычно не нужно. Проблема в том, что когда в стране такое неравенство, как в России, его невозможно ничем оправдать. У российских элит такое количество денег, что они не знают, куда их девать, — и поэтому их образ жизни становится откровенно вызывающим. Россиян одновременно привлекает и раздражает образ жизни российских олигархов. Или, например, высокооплачиваемых футболистов, которые всерьез поверили, что деньги делают их всемогущими.
Людей за пределами столиц раздражает неравенство между Москвой и регионами. Возникает вопрос: «Чем я хуже? Я честно работаю, но почему-то не могу себе этого позволить. Чем я хуже тех же москвичей, которым я проигрываю по зарплате в два или в три раза?» Хочется перенять такой потребительский стиль — но для этого люди загоняют себя в кредиты. При этом в России замкнуты почти все социальные лифты. Подавляющее большинство людей готово работать и зарабатывать, но движение вверх блокируется. И возможностей поменять систему тоже нет: российские богачи — это и есть главные российские чиновники, и они никому не готовы отдать власть. Экономическое неравенство переходит в политическое.
— Это и будет тем самым катализатором народного раздражения? Часто ведь говорят о том, что серьезные протесты никогда не возникают из чисто экономических причин.
— Да, триггером станет какой-то случай демонстративного пренебрежения, который позволит выразить недовольство на языке ясных требований. Кокорина с Мамаевым можно посадить в СИЗО, а вот когда будет раздражитель, на котором сойдется недовольство и на которого ни у кого не будет управы, — это радикально накалит ситуацию. Грубо говоря, авария на Ленинском проспекте в сегодняшних условиях — она станет триггером. Недовольство зреет — просто оно пока ищет язык, на котором будет разговаривать.
Почему наука не существует вне политики и общества, что делает лозунг «Science saves lives» ошибочным и как агрессивный сциентизм мешает ученым действовать сообща, в интервью сайт рассказал философ и социолог Григорий Юдин (НИУ «Высшая школа экономики»).
- Григорий, во многих текстах и выступлениях вы затрагиваете важную тему - спор между науками об обществе и науками о природе и объективности. Начиная с XIX века и до последних дебатов о статусе теологии в России…
Мы сейчас находимся в ситуации, которая удивительно напоминает то, что происходило лет 120 назад, когда появились гуманитарные науки и шел спор о разделении наук. С одной стороны выступали естествоиспытатели и философы-натуралисты, считавшие, что в науке есть место только естественнонаучному знанию. Натурализм - это и есть сведение любых явлений к «природе», как она понимается в естествознании (natural sciences) . А с другой стороны были философы, которые разрабатывали методологию науки и полагали, что помимо естествознания существует и иной вид науки. При этом натуралисты были людьми исключительно образованными и ничего не имели против того, что в Англии называется humanities . «Прекрасно, - говорили они, - мы тоже очень любим красивые стихи, и про историю порассуждать, это нужно и полезно, но к науке не имеет никакого отношения».
Их противники же доказывали, что гуманитарное знание научно, но при этом не сводимо к естественнонаучному. Потому что у него другой научный метод. Ответы на вопрос об уникальности этого метода давались разные: свой у неокантианцев, свой в герменевтике, свой у феноменологов . В целом этот проект оказался успешным.
- В чем его успешность?
Благодаря ему удалось утвердить гуманитарные и социальные науки именно в качестве наук. Для этого требовалось показать, что речь идет именно о научном знании - знании воспроизводимом, имеющем понятные критерии и претендующем на общезначимость.
Конечно, эта институционализация произошла в разных местах в разной степени. Скажем, в Англии сохранилось разделение на sciences с одной стороны и arts & humanities - с другой. То есть науке противопоставлено гуманитарное знание, которое смыкается с искусством. Во Франции и Германии это было гораздо более успешное движение: институционально удалось закрепить (в рамках университетов) научные дисциплины со своими четкими критериями объективного знания, которые никоим образом не сводятся к естественнонаучному методу: историю, социологию, психологию и многие другие.
- А в чем особенность метода социальных и гуманитарных наук?
Это одна из основных и наиболее интересных тем современной эпистемологии. Но если говорить совсем просто, то социальные и гуманитарные науки имеют дело со смыслами. И в области смыслов действуют собственные строгие законы и структурные связи. Они мало напоминают те, с которыми работают естественные науки.
Эпистемология - раздел философии, в котором анализируется природа и возможности знания, его границы и условия достоверности.
Скажем, если человек все время жалуется на плохое настроение, мы можем сказать ему «Займись спортом!» или «Начни правильно питаться!». Это будет совет, основанный на естественнонаучном объяснении. Но если у него тяжелая депрессия, вызванная полученной в детском возрасте травмой, ему наши советы мало помогут - ему нужно к специалисту, который понимает, как насилие меняет мироощущение человека. Точно так же мы можем сколько угодно удивляться тому, что люди сплошь и рядом действуют вопреки собственным прагматичным интересам, и упрекать их в глупости и безграмотности. Чтобы понять, как именно разные элементы связываются в целостное и нередко парадоксальное мировоззрение, нужно исследовать смыслы.
Как говорил Вильгельм Дильтей , пока кто-нибудь мне не покажет, как духовная жизнь Гете может быть выведена из того, что происходит с мозгом и телом Гете, я буду считать, что наука о духе - автономная наука, которая видит четкие связи между элементами духовной жизни.
Разумеется, и факты естественной науки, в свою очередь, могут быть сведены к человеческой деятельности. Просто потому, что все естественнонаучное мировоззрение является продуктом человеческой духовной жизни. Естествознание возникло в новое время, то есть по историческим меркам относительно недавно, и именно с этого момента мы стали учиться видеть мир через призму «законов природы». У нас нет и не может быть никаких доказательств, что если человек исчезнет, то «законы природы» будут продолжать действовать, просто потому что сами законы являются продуктом синтетической активности человеческого духа.
Григорий Юдин
Философ и социолог, НИУ ВШЭ
И поэтому научное мировоззрение исторически относительно. Оно возникло в определенный момент и в определенный момент исчезнет. Это никак не понижает его статус, нам никуда от него не деться, мы живем в его рамках. Современная наука - одно из величайших творений человека. Но надо понимать, что естественные науки были созданы нашей коллективной духовной жизнью. И попытки «объяснить» духовную жизнь исходя из естественнонаучного мировоззрения, свести ее к телу или мозгу бессмысленны.
Вы говорили о том, что сегодняшние споры о научности похожи на дискуссии того времени, когда границы между науками только возникали. Почему так? Ведь с тех пор наука сделала много шагов вперед…
Культурная ситуация, в которой мы оказались сегодня, во многом очень напоминает положение дел сто с лишним лет назад. Тогда, с одной стороны, шел бурный научно-технический прогресс, благодаря науке жизнь до неузнаваемости менялась чуть ли не каждый день: телефон, трамвай, канализация, электричество, кинематограф… С другой стороны, выяснилось, что наука способна поменять нашу материальную среду, но не может дать ответы на главные жизненные вопросы. И поэтому многие стали разочаровываться в науке - до обрядов массового сжигания книг в тридцатые оставалось совсем немного времени...
Сегодня мы видим то же самое: биотехнологии, информационные технологии радикально меняют наши возможности. Но делает ли нас это счастливее? Отвечает ли это на вызовы современного мира? Нет. И поэтому, например, мы наблюдаем религиозное возрождение в разных частях мира. Люди ищут смысла, и наука не может удовлетворить этот запрос так же, как не могла это сделать в начале прошлого века.
От науки напрасно требуют ответов на предельные вопросы жизни, которыми озабочен каждый человек, и потому неизбежно разочаровываются в ней, когда она не дает ответов. Те, кто сегодня объявляет от имени науки крестовый поход против религии, совершают ту же самую ошибку. Какую альтернативу может предложить наука? Мир, в котором все поведение, вся политика будут выводиться из научного знания? Но это мир, в котором господствуют технократы, в котором человеку предлагается поверить, что ученые лучше знают, как ему обустроить свою жизнь. Именно против этого технократического мира сегодня протестуют люди - и вместе с этим начинается реакция против науки.
Григорий Юдин
Философ и социолог, НИУ ВШЭ
Так что параллелей много. Удивляет только то, насколько тонкие аргументы использовались в этой полемике век-полтора назад и насколько примитивно спор идет сейчас.
Если мы посмотрим, например, полемику Дарвина с французскими метафизиками вроде Поля Жане , то увидим, что Дарвин совершенно не был идиотом, которым его сейчас пытаются представить его последователи, эдаким упертым натуралистом. Он вполне понимал возражения, видел, что есть проблемы, с которыми приходится иметь дело. Есть некоторые законы развития жизни, а откуда они взялись? Не понадобится ли метафизика, чтобы объяснить происхождение законов эволюции? Откуда они берутся?
Но многие ученые считают, что вообще не надо отвечать на вопрос, откуда что взялось. Есть наблюдаемая реальность, мы ее изучаем и находим закономерности, опираясь на других исследователей…
С этим вряд ли кто будет спорить, если относиться к этому как принципу повседневной научной работы. Если вы эмпирический ученый, у вас есть определенная повестка, конкретные научные проблемы, вы их и решаете. Это более чем достойная деятельность. И вам не нужно, в общем-то, отвечать на вопрос, откуда все взялось. При одном условии - если вы занимаетесь своей исследовательской повесткой и не требуете монополии на объяснение мира.
Наука - это что-то вроде комнаты, которую человечество построило в своем доме. Эта комната хорошо отделана, в ней есть сложные устройства и особые правила действия, и вообще, возможно, это самая впечатляющая комната во всем доме. Но очень странно запираться в этой комнате самому и пытаться запереть в ней других. Ведь в доме есть много чего еще, да и сам дом не достроен, в нем можно что-то менять.
Григорий Юдин
Философ и социолог, НИУ ВШЭ
Идея о том, что нужно отказаться от поиска причин и заниматься только фактами, чтобы обеспечить прогресс науки, а вместе с ним и общественный прогресс, совсем не нова. Ее высказал в середине XIX века родоначальник философии позитивизма Огюст Конт. Но Конт не мог объяснить, почему развитие науки надо считать прогрессом (а не регрессом или движением по кругу), а также почему от развития науки обязательно прогрессирует общество. Поэтому Конт предсказуемо закончил тем, что объявил позитивизм религией, а себя - ее верховным жрецом. Это хороший урок для всех, кто сегодня ищет в науке решения всех проблем: вы можете верить в научный прогресс, но для этой веры нет никаких научных оснований.
Логично. Но есть одно возражение. В современных социальных науках все-таки стал общепринятым императив критической рефлексии. К каждому ученому, каким бы локальным сюжетом он ни занимался, всегда есть вопрос, откуда вы взяли ваши категории. Не является ли ваша позиция ангажированной, политически или иначе? Этот императив могут игнорировать, но его никто не отрицает. А к ученым-эмпирикам, работающим в естественных науках, не предъявляют такое требование - произвести критическую работу по реконструкции генеалогии своих категорий.
Я не думаю, что всем надо постоянно заниматься исследованием генеалогии собственных категорий. Ученые обычно заняты конкретной работой, и было бы странно, если бы они все время ставили саму эту работу под сомнение. Как говорится, если бы сороконожка все время думала, как ей ходить, она умерла бы с голоду.
Но было бы неплохо помнить о том, что научное знание всегда существует в обществе. Причем вовсе не в том смысле, что общество создает какие-то условия для существования науки: строит лаборатории, выделяет деньги, определяет приоритеты и так далее. А в том смысле, что любое знание соответствует какому-то типу общества, любое знание укрепляет один тип общества и теснит какой-то другой. Поэтому не бывает «неангажированного» знания.
В социологии науки еще в 1970-е годы Дэвид Блур ввел так называемый «принцип симметрии»: история и социология объясняют равным образом и «ошибочное», и «истинное» научное знание. Благодаря этому мы сегодня знаем, что биологический эволюционизм Дарвина вырос из социального эволюционизма (а не наоборот), что марксизм существенно повлиял на советскую биологию, что спор о научном методе в британском Королевском обществе в XVII веке между Робертом Бойлем и Томасом Гоббсом имел политическую природу, и так далее.
Так что серьезные научные споры редко бывают «чисто научными» - за ними всегда стоят социальные конфликты. Это редко споры межу «истиной» и «ложью» - обычно это борьба между разными истинами, каждая со своим видением мира.
Григорий Юдин
Философ и социолог, НИУ ВШЭ
Да и само разделение на «истинное» и «ложное» знание относительно: то, что мы сегодня считаем научно установленной истиной, завтра будем считать заблуждением, и наоборот, будем называть первооткрывателями кого-то из тех, кого сегодня считаем аутсайдерами.
- C этим никто не спорит…
Я бы так не сказал. Потому что если ты признаешь, что твое знание возможно только здесь и сейчас, то ты тем самым признаешь и то, что научное знание может быть разным, что если бы дело было в других культурно-исторических обстоятельствах, то и знание было бы другим (не ложным, а именно другим). А значит, не стоит заявлять, что ты один на свете обладаешь истиной только потому, что ты получил свои результаты с помощью некоторых общепринятых в твоем сообществе техник. Умение видеть причины и, главное, социальные последствия собственного научного знания - это и есть способность к рефлексии.
- Получается, природа зависит от общества? Точнее, наше понимание природы.
Безусловно. Каждое общество строит себе свою природу. Мы построили себе естественнонаучную природу в XVI-XVII веках и с тех пор живем в ней. Хотя и с тех пор было много развилок, на которых этот образ природы менялся, и каждый раз все могло пойти иначе. Все это никак не уязвляет и не оскорбляет науку, разумеется. Понятно, что она просто постулирует свой предмет, она держится на этой предпосылке.
- То есть проблемы никакой нет?
Проблема как раз есть. Она состоит в том, что об этих предпосылках забывают. Из-за этого постоянно появляются нелепые высказывания вроде «существование Бога не доказано, поэтому теологическое знание не имеет права на существование» или «существование общества не доказано, поэтому социология не имеет права на существование». А что, существование прямой уже кто-нибудь доказал? Как вообще можно «доказать существование» чего-либо эмпирически?
У нас есть определенные предпосылки, и, исходя из них, мы производим наблюдения и рациональные рассуждения и дальше придумываем имена, чтобы назвать что-то, полученное нами в опыте. Дальше мы говорим: «Давайте будем называть это Икс». После этого мы будем говорить «Икс существует» - вот и все, что мы можем сделать. Возможно, через какое-то время мы сменим систему предпосылок или откорректируем свои рассуждения и наблюдения и откажемся от Икс. На протяжении нескольких веков физика считала, что существует эфир; в начале ХХ века это убеждение отбросили. Что мы теперь можем сказать об эфире, что он сначала существовал, а потом перестал существовать? Или что его не существовало до современной физики, а потом он появился? Или же что его не существовало никогда? Нет, он существует в рамках определенной теоретической картины мира, как и любые другие феномены.
Проблема еще и в том, что люди, которые сегодня занимаются научным просвещением или даже выступают от лица науки, порой не понимают, на чем наука основана. Они полагают, что наука занимается накоплением знания: у нас был килограмм знания, потом кило двести, потом кило четыреста и так далее. И что наука - это такая борьба просвещенных против невежественных, как будто бы чем меньше людей будет верить экстрасенсам, тем наука сильнее.
Но наука на протяжении всей своей истории развивалась как борьба против здравого смысла. Не против необразованности, а против наших собственных привычных убеждений – в этом состоит преобразующий, революционный дух науки. То, что сегодня всем ясно и очевидно, завтра будет преодолено и отвергнуто - так развивается научное знание, Гастон Башляр называл это «эпистемологическими прорывами». Мы не накапливаем знание, как капиталисты или мышь, которая все тащит к себе в нору. Мы ставим под сомнение собственные догмы и убеждения - и так происходят научные революции.
Григорий Юдин
Философ и социолог
Современные ученые, а также защитники и идеологи «научного мировоззрения» говорят, что работают на прогресс, против мракобесия…
Чтобы обвинять кого-то в мракобесии, надо быть уверенным, что ты сам чист от этого греха. Люди, которые говорят за всю науку, охотно обвиняют в мракобесии окружающую их чернь. Мы это видим сегодня что в США, что в России. Но что они могут этой черни предложить? Уверовать в научное знание? А зачем?
- Ну, как же. Вот ученые на «Маршах в защиту науки» несли плакаты: мы сильны тем, что у нас есть evidence-based knowledge, peer review… (наука, основанная на доказательствах, экспертная оценка)
Это в вашей системе координат дает превосходство, а другим людям что до этого? Ирония в том, что во многом ученые сегодня борются с последствиями своих собственных действий. Точнее, своего натуралистического и позитивистского мировоззрения.
Takver/Wikimedia Commons
- В каком смысле?
Потому что именно это мировоззрение привело к господствующей в последнее время идее о том, что все вопросы можно решить с помощью evidence-based policy . Что можно научно доказать, что делать обществу, какую вести политику в сфере здравоохранения, образования, экономики и так далее. И теперь опирающиеся на evidence-based policy менеджеры самих же ученых лишают денег - за неэффективность и так далее.
И сами ученые сейчас поневоле выходят из своей аутичной позиции внешнего наблюдателя, спокойно изучающего объективный мир. У них появляются реальные экономические проблемы - они становятся частью международного прекариата (так называют класс работников с временной или частичной занятостью, - прим. сайт) . Условия работы становятся все более чудовищными: работы мало, она нестабильная, идет наступление на постоянные контракты, увеличивается нагрузка. И новое классовое положение ученых, я надеюсь, заставит их смотреть на мир иначе, не навязывая окружающим свою привилегию истинного научного знания.
Но мне все равно кажется, что есть противоречие между условным лагерем критических интеллектуалов и ученых, которые давно говорят, что власть экспертов - это плохо, что истина конструируется, что любое знание исходит из какого-то места в обществе. Это уровень рефлексии, которому учат буквально на втором курсе. И одновременно существуют сотни тысяч ученых, тысячи кафедр и факультетов, которые абсолютно спокойно с того же второго курса воспроизводят в студентах «объективную реальность». Выбирай себе кусочек этой реальности, от звезды до клетки, вот тебе инструменты, вот тебе лаборатория, и копай там - и все будет отлично.
Зачем? Зачем все это делать?
- Это же интересно - мир изучать…
На самом деле важно задавать этот вопрос. Чтобы для ученых не был самоочевидным ответ «наука нужна, чтобы было больше полезных технологий». А для чего вам больше технологий?
- Чтобы помогать человечеству, чтобы save lives (спасать жизни) . Так было на плакате на марше написано: «Science saves lives» (наука спасает жизни) .
А зачем их save , эти lives ?
- Это самоочевидно!
Takver/Wikimedia Commons
Совершенно не самоочевидно. Зачем превращать человека в биологическую жизнь? До сих пор ничем хорошим это не заканчивалось. Конечно, людьми, которые больше всего на свете ценят свое биологическое существование, свою физиологию, легче всего управлять. Если мы не видим в человеке ничего, кроме вот этой life , которую нужно save , мы начинаем его со всех сторон насиловать, чтобы его только спасти. И готовы не останавливаться ни перед чем, чтобы его только спасти.
Это не очевидный ответ на эти вопросы. Не очевидно, что наука должна save lives . Не очевидно, что эти lives вообще нужно save . А то мы его сначала save , а потом он выходит из больницы и немедленно выкуривает пачку сигарет. Или берет оружие и едет в Донбасс воевать. И мы удивляемся: как это так, вроде все есть у человека, чего ему не сидится в тепле и комфорте. Человек не сводится к биологической жизни.
Зачем нам ее продлевать? Мы хоть себя спросили, зачем? Мы спросили себя, что будет, если мы все время будем эту биологическую жизнь мультиплицировать? Мы спросили себя, что будет, когда люди начнут жрать таблетки, позволяющие им стать всемогущими? Какой смысл во всем этом? Этот вопрос должен задаваться любым человеком, который в науку вовлечен. «Мне просто интересно» - это безответственный ответ.
Григорий Юдин
Философ и социолог, НИУ ВШЭ
Через что определяется история и как с помощью управления прошлым нам навязывают идеологию? Чем опасны реконструкторские движения и как будет меняться наше представление о недавних событиях с течением времени? В начале марта в культурном центре «Смена» при поддержке фонда Гайдара состоялась лекция «Миф о российском патернализме: Как рыночные реформы изменили „советского человека“?» Григория Юдина - кандидата философских наук, старшего научного сотрудника лаборатории экономико-социологических исследований Высшей школы экономики, профессора Московской Высшей школы социальных и экономических наук. Арт-директор «Смены» Кирилл Маевский поговорил с Юдиным о состоянии исторической науки в России, о том, как власть конструирует политическую историю и какие механизмы сопротивления помогают нам обрести свою идентичность.
Как появилось ваше исследование «Какое прошлое нужно будущему России»?
В 2015−2016 годах в Москве образовалось Вольное историческое общество, чтобы объединить профессиональных историков и отреагировать на то, что история неожиданно стала языком российской политики. Многие историки подключились к этому поперек своего желания, понимая, что если не поучаствовать в таком проекте, то у исторической науки возникнет сомнительный имидж, потому что от ее лица говорит непонятно кто. Есть Российское военно-историческое общество, которое курирует Владимир Мединский, и Российское историческое общество с куратором Сергеем Нарышкиным, и хотя организации разные, в целом понятно, что они аффилированы с государством. Вольное историческое общество создавалось без куратора, чтобы занимать непредвзятую позицию. И первой же задачей стали диагностика и инвентаризация исторического сознания в России сегодня. Это исследование призвано помочь понять, на что можно опираться, чтобы добиться вменяемого отношения к истории, более продуктивно с ней работать.
Вопрос в заголовке стоял с самого начала?
Да, оно изначально так и называлось. В начале нашего отчета стоит знаменитая цитата из Оруэлла: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим». Сейчас это стало настолько очевидно и злободневно: чтобы проектировать будущее, нам должно быть понятно, как устроено прошлое в этом будущем и что это должно быть за прошлое в том будущем, которого мы все желаем.
У вас были какие-то гипотезы, когда вы только приступали к исследованию?
Наша часть исследования - социологическая, мы хотели прощупать общество. Как это можно сделать? Первая мысль, которая возникает при желании узнать что-нибудь об историческом сознании, - это провести массовый опрос и выяснить, что люди думают, например, по поводу Сталина, Октябрьской революции и так далее. Но опросы повторяют повестку вчерашних новостей - если вчера по телевизору об этом сказали, то люди это вам и выскажут. Не потому, что они глупые или ни о чем не задумываются, а потому, что, когда ты начинаешь общаться с ними на языке вечерних новостей, они начинают тебе отвечать тем же языком.
Первая гипотеза, которую мы хотели проверить, связана с тем, что в последнее время происходит тотальная сталинизация исторического сознания, возникает любовь к особо кровавым и тоталитарным лидерам. Мы специально выбирали метод так, чтобы понять, так ли это, не скатываясь в телевизионную риторику. Поэтому мы провели не опрос, а серию глубинных интервью с другой категорией людей - в докладе мы назвали их акторами памяти, теми, кто производит историческую память. В нашем исследовании они делились на пять категорий: музейные работники и краеведы; профессиональные академические историки (в том числе авторы учебников); школьные учителя истории; журналисты, пишущие на историческую тематику; активисты исторических движений. На чем мы основываемся? На самом деле историческая память, как показывают исследования, устроена вовсе не так, что люди воспроизводят телевизор. Историческую память воспроизводят те, кто активно в это инвестирует, занимается ее трансформацией. Поэтому то, какой будет память завтра, зависит от того, как и с чем эти акторы памяти работают сегодня, какую повестку они преследуют. А вторая гипотеза в том, что есть сюжеты, которые существуют только в федеральной повестке, а за пределами Москвы не являются важными и ключевыми. «Сталинизация» нам представлялась одним из таких сюжетов.
Эти гипотезы подтвердились?
Реальность, как обычно, оказалась гораздо сложнее. Мы обнаружили то, чего не ожидали увидеть, - в России сейчас возникает множество новых форм исторической памяти. Иными словами, чтобы понять, что происходит с исторической памятью, нужно смотреть не на содержание, отношение к какому-то конкретному персонажу или событию, а на то, в каких формах она существует. Трансформация форм влечет за собой другое содержание. Меня время от времени спрашивают: «Что должно произойти для десталинизации?», и возникает фантазия, что если переключить тумблер телевизора и вместо того, чтобы говорить «Сталин - хороший», начать говорить «Сталин - плохой», то десталинизация произойдет. Но это случится не так, это будет трансформация форм. Поэтому какие-то сюжеты, которые сегодня кажутся важными, потихоньку, как трухлявое дерево, отпадут и станут никому не интересными. Они не будут раздавлены контратакой, а уйдут в небытие.
В своем докладе вы говорите о двух моделях исторической памяти - одна из них директивная, навязанная идеологией и государством. Вторую вы обозначаете как локальную память - о своей семье, районе, истории города. Не кажется ли вам, что она является эскапизмом, уходом от большой истории?
Второй памятью мы назвали то, что не вписывается в государственное представление о том, как устроена история. Государственная политика достаточно агрессивна, она использует доступные ей инструменты - мемориалы, памятники, сейчас к этому подключается кино и искусство в целом. Но есть несколько новых форм памяти, которым не находится места в структуре, которую я описал, они появляются снизу. Если государственная система устроена по принципу «сверху вниз» и в нее трудно встроиться, то вторая память - наоборот, снизу вверх. Снизу возникают книги памяти, архивы, в том числе цифровые, коллективные акции, такие, как «Бессмертный полк», краеведческие, локальные формы, которые производятся местными историками в попытке оживить идентичность города или края.
Между этими подходами есть очевидное различие по субъекту. Субъектом первой памяти является государство, это его единая история, которая тянется с незапамятных времен. Но это мифологическая конструкция, потому что она предполагает, что государство всегда было одним и тем же. Это хорошо видно на примере юбилея революции, когда государственная пропаганда пытается игнорировать тот факт, что советское государство строилось как радикальное отрицание предыдущей власти. Мы знаем, что у коммунистов в принципе была идея отмирания государства. Во всяком случае, то, что они построили, было совершенно новым историческим субъектом. Сегодня мы видим, как эти огромные бреши пытаются заретушировать указаниями на преемственность. То же самое верно применительно к ситуации 1991 года.

Субъектом второй истории является не государство, а индивид или семья. Она позволяет человеку узнать о том, что происходило с его предками, восстановить свою родословную. У такой памяти неизбежно много субъектов, это могут быть разные семьи, в зависимости от региона - разные локальные, городские, краевые или национальные памяти. Татарстан в этом смысле хороший пример, потому что татарская история не монтируется легко к славному русскому государству, которое не пойми откуда начало свой триумфальный марш по истории. Выбивается отсюда и масса других исторических нарративов; низовая история позволяет этот нарратив восстанавливать.
Есть еще одно важное отличие - оно связано с идеологической нейтральностью второй памяти. Она не пытается что-то противопоставлять памяти первой, она пытается уйти от идеологизации и политизации, направлена на то, чтобы увести историю от политики. Респонденты постоянно говорят нам, что нечего людей держать за идиотов, надо показать, как оно было, а дальше они сами сумеют выставить оценки. Тем самым признается возможность противоречивости событий и аудитории предоставляется возможность выносить свои суждения самостоятельно. В этом нет ничего удивительного, потому что изначально инициаторами второй памяти являются профессиональные историки. Именно они в конце 1980-х неожиданно получили возможность заниматься исторической работой, открылись архивы, появилось множество новой информации. И одновременно люди перестали бояться истории своей семьи, которую в советское время старались скрывать. Так что появился запрос на восстановление семейных историй - знать историю своей семьи постепенно становится модным. Историки восстанавливают эту память, делают архивы доступными гражданам; а те, в свою очередь, приносят историкам новые данные, частные архивы, артефакты - это особенно видно на краеведческом уровне.
Философ Мишель Фуко говорил, что там, где возникает подавленный исторический конфликт, противостояние ведется не в терминах открытой борьбы, а в терминах скрытого сопротивления. Если есть какая-то доминирующая, господствующая память, то возникает и контрпамять, которая работает не через прямое оспаривание, а формирует обходные пути, которые позволяют избежать фронтального столкновения. Потому это способ избежать политических оппозиций, которые всем надоели.
На лекции вы говорили о том, что проводили исследование с людьми, которые работают на опросах общественного мнения. Они рассказывали случаи, когда стараются отказаться от опроса, если он связан с политикой. Не кажется вам, что в этом есть табуированность разговора о политике, когда туда невольно вплетается история?
Действительно, часть более общей проблемы, с которой мы имеем дело в России, - это деполитизация, отсутствие открытой политической дискуссии. Это относится не только к интервьюерам, у нас в принципе нет для этого подходящего языка; если в разговоре с друзьями или знакомыми вдруг обнаруживаются политические разногласия, то на втором шаге мы скатываемся к ругани, взаимным оскорблениям, это подрывает отношения. Политика все время связана с враждой, войной, жестоким конфликтом, поэтому люди стараются держаться от этого подальше. И история попадает сюда же - как не принято говорить о политике, точно так же не принято говорить об исторической политике.
Гораздо проще и эффективнее говорить о том, что происходит со мной, моей семьей, узнавать о связи с ними. Когда мы уже сделали исследование и я писал отчет, возникла история Дениса Карагодина - человека, который провел расследование убийства своего прадеда, восстановил каждого, кто участвовал в этом. Есть ли у него цель пересмотра истории? Нет, он от нее открещивается, просто требуя признать, что это преступление, за которым кто-то стоял. Господствующая историческая политика не дает языка, чтобы об этом разговаривать, она направлена на раздробление, объявление предателями тех, кто не попадает в государственный нарратив. А в него не попадают большинство наших сограждан - так или иначе, очень у многих были конфликты с государством.
Если зайти в любой книжный магазин, особенно сетевой, можно увидеть гигантское количество книг об истории. О качестве этих книг следует поговорить отдельно, но, тем не менее, спрос на большую историю очевиден и удовлетворяется он простыми формами - популярными книгами, телепередачами, сериалами. Как вы считаете, с чем связан этот повышенный интерес к историческому знанию?
Это связано с тем, что у нас возникает запрос на формирование своей идентичности. Мы долгое время теряли это из виду, ушли в индивидуальные проблемы, когда нам нужно было заботиться о собственном выживании, благосостоянии, карьерном успехе. В обществе наиболее ценным стал признаваться индивидуальный успех. Смог ты найти оплачиваемую деятельность, что-то продать - ты на коне, а все остальное не имеет значения. Отсюда власть, связанная с деньгами, зацикленность на потребительских стандартах - то, на что сегодня работают большинство российских семей.
Но человек устроен не так. Он не может все время думать о личной выгоде, ему нужно понимать, как он связан с людьми, землей, на которой он живет. Сейчас настал период, когда первая волна удовлетворения собственных интересов закончилась и начал проступать запрос на историю. Я бы назвал его частью более общего запроса на возрождение политики. Государство не дает этому запросу выхода - любая политическая активность, коллективные объединения строго запрещены и за ними следят. В России нет особой цензуры, но если ты попытался что-то организовать - у тебя точно будут проблемы. А человек - животное политическое.
История становится одним из способов иноязычно работать с политикой, осознавать себя частью чего-то большего - страны, народа. Это пока аморфные понятия, но способ с ними работать уже есть. Неудивительно, что люди, связанные с этой озабоченностью историей, проявляют готовность к агрессивному политическому действию. Например, наиболее агрессивные группы, проявившие себя в ходе конфликта на Украине, были связаны с реконструкторским движением. Они прошли период работы с историей (как эта работа велась - не буду говорить, это отдельное и довольно грустное повествование), и так как внутри страны почти ничего сделать невозможно, они нашли врага вовне. Поэтому чем сильнее мы подавляем историю, потребность в политическом понимании своих исторических корней, тем более плачевным будет результат.
Вы говорите о запросе на политическую идентичность, при этом результаты ваших исследований говорят о том, что многие не готовы говорить о политике. Это временный феномен?
Запрос есть, но нет языка, чтобы говорить о нем. Кому интересно делиться на «ватников» и «либерастов»? Это разговор о политике? Нет, это просто способ друг друга обзывать. Чтобы появился другой язык - должно появиться пространство для политической дискуссии. Сегодня этого пространства нет, оно уничтожается, это результат длительной целенаправленной работы по тому, чтобы превратить политику в какую-то клоунаду. Вы видите политиков, которые выходят на выборы? Кто вообще в здравом уме будет за них голосовать? Поэтому история становится способом осознавать себя частью чего-то большего. К сожалению, этим способом пользуются и люди с довольно агрессивными, милитаристскими воззрениями.
Исследовали ли вы исторические участки (кроме довольно популярных, вроде ВОВ, революции, событий 1991 года), которые становятся объектом приватизации господствующей идеологии? Может, в процессе исследования возникали такие исторические отрезки?
Мы заметили, что к истории есть низовой интерес и в ней все эти события преломляются по-другому. Ты обнаруживаешь ситуацию, когда Великую Отечественную войну кто-то закончил в Берлине триумфатором, а кто-то - в лагерях. Здесь больше одного исторического нарратива, и непонятно, почему одни имеют право на историческую память, а другие - не имеют. Поэтому каждое событие рассыпается на множество нарративов, оказывается гораздо более сложным, не таким, каким его хочет представить господствующая идеология.